ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«LES COCCINELLES»
…«Рисовать, сказалъ я выше, трудно и, по
моему, просто нельзя, съ жизни, еще не сложившейся, гдѣ формы ея не
устоялись, лица не наслоились въ типы. Никто не знаетъ, въ какiя формы
дѣятельности и жизни отольются молодыя силы юныхъ поколѣнiй, такъ какъ
сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрѣпшихъ направленiй и формъ. Можно
въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущiй характеръ новыхъ людей»…
«Но писать самый процессъ броженiя нельзя: въ немъ личности видоизмѣняются
почти каждый день — и будутъ неуловимы для пера»…
И. А. Гончаровъ. «Лучше поздно,
чѣмъ никогда».
I.
Если бы человѣческiя страсти и чувства,
симпатiи и антипатiи, любовь и ненависть были подобны взрывчатымъ веществамъ,
или положительному и отрицательному электричеству — маленькiй домикъ, стоявшiй
на rue de la Gare
должно было бы взорвать и разнести на мелкiя части. Такъ кипѣли въ немъ
скрытыя и сдерживаемыя чувства.
Это былъ совсѣмъ маленькiй домикъ, какiе
не рѣдкость подъ Парижемъ, въ его предмѣстьяхъ. И мѣстечко,
гдѣ онъ стоялъ тоже было маленькое и незначительное, какъ то
незамѣтно сливавшееся съ другимъ, уже значительнымъ и богатымъ городкомъ,
имѣвшимъ даже за собою какое то историческое прошлое. Подобно Медону оно
было заселено Русскими бѣженцами. Да оно и походило на Медонъ. Въ немъ,
какъ впрочемъ и во всякомъ французскомъ мѣстечкѣ, были avenue du
Marechal Joffre, rue de la Gare,
place du Marche, все, какъ полагается во всякомъ мѣстечкѣ,
имѣющемъ претензiи стать въ будущемъ городомъ. Въ немъ были и двѣ
Русскiя церкви: — Соборная и Евлогiанская. Были и свои Русскiя знаменитости: —
музыкальный критикъ изъ большой Парижской эмигрантской газеты, отставная
артистка Императорскихъ театровъ, бывшiй прокуроръ Судебной палаты и шесть
настоящихъ «царскихъ» генераловъ. Былъ въ немъ еще какой то казачiй квартетъ и
два церковныхъ хора. Все это создавало Русскую, «нашу» жизнь мѣстечка и
въ той или иной степени влiяло и на развитiе страстей въ маленькомъ домикѣ
на rue de la Gare.
Въ этомъ домикѣ, если считать правильно,
былъ одинъ этажъ и одна квартира. Но въ немъ считалось три этажа и три
квартиры. Главную, центральную, изъ двухъ крошечныхъ комнатокъ, которымъ
предшествовала совсѣмъ уже минiатюрная прихожая съ уборной, занимала
семья Нордековыхъ. Она состояла изъ мужа, полковника въ прошломъ, конторщика въ
настоящемъ, жены, въ прошломъ тон(м-?)ной и красивой барыни, игравшей на
роялѣ и знавшей четыре европейскихъ языка, въ настоящемъ стенотипистки
при одномъ учрежденiи, назначенiя котораго она никакъ не могла понять, и
наконецъ, «мамочки», старушки семидесяти лѣтъ, бывшей когда то фрейлиной
Двора. Надъ ними въ единственной комнатушкѣ мезонина, изъ за покатой,
крутой крыши, замѣнявшей потолокъ, походившей на Русскiй гробъ, гдѣ
лѣтомъ въ жары изъ за раскаленной черепицы было нестерпимо душно, а зимою
въ дожди сыро и холодно, помѣщалось «чадо», сынъ Нордековыхъ, 23-хъ
лѣтнiй молодой человѣкъ, носившiй имя Александра — Шура, — но
называвшiйся Мишелемъ Строговымъ, — Парижскiй шофферъ.
Наконецъ, нижнюю квартиру, въ
полуподвалѣ, занимала сапожная мастерская казака Агафошкина. Ее держалъ
шестидесяти пяти лѣтнiй крѣпкiй старикъ Нифонтъ Ивановичъ, съ
внукомъ Фирсомъ, сожительствовавшимъ съ какою то полькою.
Къ этому пестрому и различному населенiю,
напоминавшему совѣтскiя, уплотненныя квартиры, слѣдуетъ еще
прибавить полковникову собаку Топси, коричневаго породистаго добермана, съ
рыжеватыми подпалинами и умными глазами, сiявшими изъ черныхъ вѣкъ, какъ
два блестящихъ желтыхъ топаза.
II.
Шесть часовъ утра. Сырой и сѣрый,
мглистый, дождливый октябрьскiй день никакъ не можетъ народиться. Если выдти
черезъ рыночную площадь, гдѣ почта и мэрiя, и спуститься по широкой
каштановой аллеѣ къ берегу Сены, откуда открывается прекрасный видъ на
Парижъ, то ни Сены, ни Парижа не увидишь. Все покрыто густой, непрозрачной
мглою, клубится черными дымами и тучами, и мороситъ, мороситъ, мороситъ безъ
конца надоѣдливый Парижскiй дождь.
Въ верхней комнатушкѣ, въ «гробу»,
надоѣдливо, заливисто, протяжно и нудно залился будильничный звонъ. Онъ
точно какимъ то острымъ, ядовитымъ лезвiемъ прорѣзалъ домикъ и, казалось,
съ тою же одинаковою, тоску наводящею силою, съ тою же кажущеюся безконечностью
и непрерывностью раздался по всѣмъ этажамъ, сталъ слышенъ и у
сосѣдей, въ другихъ такихъ же домикахъ — виллахъ.
Мишель Строговъ, спавшiй на широкой постели,
занимавшей почти всю его комнату, сдернулъ съ себя старое суконное
одѣяло, и еще мутными глазами осмотрѣлъ облѣзлыя,
ничѣмъ неукрашенныя стѣны. Онъ не остановилъ звона будильника, хотя
и зналъ, что этотъ звонъ будитъ раньше времени его родителей и бабушку. «Вотъ
еще! Чего ихъ нѣжить — буржуевъ» — всякiй разъ утромъ думалъ онъ,
вспоминая мольбы матери и выговоры отца.
Мишель поднялся съ постели и, скинувъ рубашку,
голый подошелъ къ окну. За окномъ, доходившимъ до полу, былъ крошечный
балкончикъ. Онъ былъ такой маленькiй, что выйти на него было нельзя, и устроенъ
онъ былъ по прихоти архитектора, а, можетъ быть, для болѣе яркой рекламы
домику: — «квартира съ балкономъ». Мишель открылъ дверь. Посерединѣ двери
былъ подвѣшенъ довольно большой мѣшокъ съ пескомъ. Онъ долженъ
былъ, по мысли Мишеля, изображать вооруженную боксерской перчаткой руку
противника. Мишель толкалъ мѣшокъ, онъ отлеталъ въ сторону и съ силою
стремился обратно на Мишеля и тотъ, увертываясь отъ него, толкалъ его снова.
Узко поставленные глаза Мишеля сверкали, злобная улыбка кривила худыя плоскiя
щеки, тонкiя губы сжимались и становились еще тоньше. Все его тѣло
изгибалось, выпрямлялось, онъ то отскакивалъ отъ мѣшка, то наступалъ,
нанося ударъ за ударомъ. Онъ походилъ въ эти минуты на дикаря, танцующаго
воинственный танецъ. Онъ топалъ съ силою босыми ногами, нисколько не
безпокоясь, что подъ нимъ спала его бабушка. Онъ былъ занятъ «дѣломъ»,
интересовавшимъ его болѣе всего. У него была одна, все поглощавшая
страсть — стать знаменитымъ боксеромъ, такимъ, какъ Карпантье, побѣдить
всѣхъ, стать чемпiономъ «легкаго вѣса», заработать миллiоны,
видѣть поклоненiе толпы, и тогда… дальше его голова отказывалась думать.
He хватало воображенiя. Дальше въ мечтахъ была своя машина «Люксъ», какая
нибудь Эспано-Сьюза, а еще лучше гоночная машина съ необычайной силы моторомъ,
и установленiе мiровыхъ рекордовъ. Хорошо было бы еще и летать. Но летать
непремѣнно такъ, какъ еще никто не леталъ. Напримѣръ долетѣть
до луны, или до какой нибудь тамъ звѣзды. А для этого было нужно быть
сильнымъ, ловкимъ и здоровымъ. Для этого «физ-культура», для этого утренняя
гимнастика и боксъ по своей собственной системѣ.
Когда то, двѣнадцать лѣтъ тому
назадъ, Мишель Строговъ былъ славнымъ десятилѣтнимъ мальчикомъ, съ русыми
мягкими волосиками, онъ готовился поступить въ корпусъ и продолжить славное
служенiе Отечеству рода Нордековыхъ. Но, налетѣла революцiя. Отецъ,
бывшiй на фронтѣ, очутился въ Добровольческой Армiи, мать, послѣ
долгихъ мытарствъ, арестовъ, издѣвательствъ, послѣ
многолѣтней разлуки, по объявленiю отъискала мужа уже въ Парижѣ, и
помчалась, преодолѣвая тысячи опасностей и лишенiй, къ нему.
Шура оставался сначала на попеченiи бабушки.
Началась для него новая, необычная, полная впечатлѣнiй жизнь.
Пролетарская школа второй ступени… Холодъ и голодъ. Новый языкъ, хулиганскiй
жаргонъ какой то, раннее развитiе и познанiе жизни. Грязныя, развратныя
дѣвчонки. Дома — чопорная бабушка, не понимавшая своего внука и боявшаяся
его. И мало по малу славный мальчикъ Шура преобразился въ гражданина Нордекова.
Онъ пересталъ креститься на храмы Божiи, пересталъ ходить въ церковь, проникся
уваженiемъ къ физической силѣ, записался въ комсомолъ…. Потомъ вдругъ
какъ то прозрѣлъ, испугался, что его возьмутъ въ красную армiю и при
самыхъ невѣроятныхъ обстоятельствахъ, забравшись на шведскiй пароходъ въ
Ленинградѣ, бѣжалъ заграницу. Безъ паспорта, безъ какого бы то ни
было документа о томъ, кто онъ, Мишель сталъ пробивать себѣ дорогу жизни.
Попалъ во Францiю, использовалъ свои знанiя французскаго языка, полученныя въ
раннемъ дѣтствѣ отъ матери, и съ перваго же знакомства съ
полицейскимъ комиссарiатомъ съ чисто совѣтскимъ искусствомъ лжи
сдѣлался французскимъ гражданиномъ Мишелемъ Строговымъ и выправилъ
себѣ всѣ нужныя для этого бумаги.
— Какъ странно, Мишель Строговъ?…
Совсѣмъ, какъ въ модномъ фильмѣ, — сказали въ полицiи.
Ему, конечно, не повѣрили бы и не дали
бы ему документовъ, да уже по очень необычному дѣлу онъ попался въ
полицiю. Онъ безъ всякихъ на то правъ ѣздилъ на такси. Пассажиръ забылъ
въ каретѣ бумажникъ съ деньгами, болѣе трехсотъ тысячъ франковъ.
Шофферъ всѣ деньги доставилъ въ полицiю и отказался отъ вознагражденiя.
Сѣдокъ, почтенный французъ, пораженный честностью и безкорыстiемъ
молодого человѣка съ такимъ необыкновеннымъ прошлымъ, съ такою громкою
Жюль Верновскою фамилiей,съ лицомъ скорѣе симпатичнымъ, сталъ хлопотать
за Мишеля. У него были связи въ томъ французскомъ городѣ, гдѣ это
случилось, Мишель Строговъ былъ признанъ и получилъ права французскаго гражданства.
И потекла его новая безпечная жизнь молодого француза, который не былъ
французомъ. Были маленькiя связи съ мидинетками, были увлеченiя кинематографомъ
и танцами и все вылилось въ упорное стремленiе къ славѣ, къ деньгамъ, къ извѣстности,
къ послѣ военной знаменитости. Были колебанiя кѣмъ стать: — первымъ
футъ-болистомъ, танцоромъ, кинематографическимъ артистомъ, велосипедистомъ,
побивающимъ рекорды, или еще кѣмъ нибудь. Боксерская слава, сказочные
оклады, выплачиваемые чемпiонамъ бокса окончательно убѣдили его и опредѣлили
направленiе его карьеры. Съ документами Мишеля Строгова ему уже не трудно было
перебраться въ Парижъ и устроиться шофферомъ въ гаражѣ. Здѣсь, и
совершенно случайно, онъ узналъ изъ газеты, взятой имъ у сосѣда, Русскаго
шоффера, что полковникъ Нордековъ въ какомъ то открытомъ собранiи будетъ
дѣлать докладъ. Мишель пошелъ на это собранiе больше изъ любопытства,
чѣмъ изъ сыновнихъ чувствъ. Узналъ отца, нашелъ въ числѣ слушателей
мать и пришелъ къ нимъ. Встрѣча была трогательная, но она не тронула
Мишеля… У него уже выработался спокойный, практическiй, чуждый
сентиментальности, взглядъ на жизнь Онъ изъ совѣтской школы второй
ступени зналъ, что отецъ и мать это только физiологическiя понятiя, и на
родственныя чувства гражданину новаго, послѣвоеннаго вѣка съ
высоколетящаго аэроплана наплевать. Но, когда уже въ крошечномъ домикѣ,
на rue de la Gare
высокая, болѣзненная, худая женщина сначала обняла его со слезами и
расцѣловала, а потомъ, точно смутившись, оттолкнула его и стала
разсматривать, разговаривая сама съ собою вслухъ, онъ смутился. Какая то теплая
волна пробѣжала по его жиламъ, и онъ не могъ найти ей
соотвѣтствующаго физiологическаго объясненiя. Пришлось бы говорить о
душѣ, а то, что у человѣка нѣтъ никакой души, что всѣ
его движенiя и помыслы легко могутъ быть объяснены и истолкованы съ медицииской
точки зрѣнiя — все это было еще въ раннiе годы пребыванiя въ
совѣтской школѣ второй ступени имъ хорошо усвоено.
— Вотъ ты какой, — говорила между тѣмъ
женщина, носившая имя матери, и Мишель съ любопытствомъ и волненiемъ, въ
которомъ ему самому не хотѣлось признаться разглядывалъ ее. Она была
очень худая. Ея лицо носило слѣды красоты, той красоты, какою каждая мать
кажется красивой своему ребенку. Оно было вмѣстѣ съ тѣмъ
очень усталое, измученное жизнью и лишенiями. И только глаза ея сверкали
особеннымъ восторгомъ, совсѣмъ непонятнымъ Мишелю, но почему то дорогимъ
и льстившимъ ему.
— Вотъ никогда бы не подумала, что у тебя
будетъ такое лицо? Ты всегда былъ у насъ кругленькiй.
И вотъ тутъ у тебя были ямочки… И
рѣснички были у тебя длинныя, предлинныя… И то сказать сколько ты…
Сколько мы всѣ пережили…
Она хотѣла его спросить, вѣруетъ
ли онъ въ Бога, молится ли, ходитъ ли въ церковь, — и не посмѣла, а онъ
ее понялъ безъ словъ и нахмурился, и когда нахмурился, сталъ уже совсѣмъ
не похожъ на того славнаго вихрастаго мальчугана, который такъ изящно носилъ
бѣлую матросскую рубашечку, отороченную голубымъ и кого она готовила въ
корпусъ. Она всмотрѣлась въ него. Она его узнавала и не узнавала.
Припоминала его прежнiя черты и отъискивала ихъ въ зтомъ молодомъ
человѣкѣ въ странной для ея Шуры шофферской одеждѣ. Онъ былъ
ей родной и чужой въ тоже время.
Откуда у него такъ близко поставленные глаза и
эта упорная, непонятная, неразгаданная мысль въ нихъ? Мысль манiака или
сумасшедшаго… Онъ смотрѣлъ на нее, не мигая, и не могла она угадать, что
онъ про нее думаетъ.
— Шура,—сказала она съ нѣжною
ласкою,—ну, разскажи намъ, какъ ты добрался до насъ, какъ жилъ всѣ эти
годы?… Господи!… десять съ лишнимъ лѣтъ мы не видались… Оставила я тебя
мальчикомъ, а вижу взрослымъ молодымъ человѣкомъ. Но ты вѣдь
мнѣ не чужой?… Да, мой родной?… Мой милый…
— Не называй меня… — Тутъ логически должно
было послѣдовать слово: — «мама», но оно не послѣдовало. Оно точно выпало
изъ памяти Шуры, какъ выпадаетъ слово изъ печатнаго набора, и Шура его не
произнесъ. Она ждала и жаждала этого слова, и, не услышавъ его, смутилась и все
прислушивалась, какъ онъ будетъ ее называть?… Онъ ее никакъ не называлъ.
Говорилъ «ты», можетъ быть, потому, что она ему говорила «ты», но за этимъ
сердечнымъ «ты» былъ холодъ безъимянности.
— Не называй меня Шурой. Особенно при другихъ…
при французахъ. Я Мишель… Мишель Строговъ. Вотъ мой паспортъ.
Онъ ей подалъ паспортъ. Паспортъ былъ французскiй,
и въ немъ дѣйствительно было прописано, что онъ Мишель Строговъ,
родившiйся въ Россiи.
— Но какъ же это такъ?… — растерянно спросила
она. — Ты перемѣнилъ подданство?… Ты больше не русскiй?
Ей это казалось ужаснымъ. Просто таки
невозможнымъ. Онъ холодно посмотрѣлъ ей прямо въ глаза и съ тихой жуткой
усмѣшкой сказалъ:
— А ты развѣ русская?…
Она поблѣднѣла. Ударъ, ей
нанесенный, былъ слишкомъ силенъ. Ей казалось — она его не снесетъ. Но она
продолжала настойчиво допрашивать. Она хотѣла знать всю правду, какъ бы
ни казалась она ей ужасной.
— Но какъ же ты сталъ французомъ?.. Ты лгалъ?…
Въ это слово она вложила всю силу души, все возмущенiе и отвращенiе ко лжи.
Онъ не смутился. Казалось, даже не понялъ,
какое такое преступленiе онъ совершилъ. Его лицо оставалось холоднымъ. На немъ
появилась презрительная, чуть замѣтная усмѣшка.
— Я выросъ и воспитался въ огнѣ
революцiи. Буржуазные предразсудки мнѣ чужды. Почему нельзя сказать то,
что выгодно и нужно по данному моменту? Это просто непрактично и глупо.
Мнѣ иначе нельзя было. Надо было жить. Безъ этого нельзя было пробиться и
стать человѣкомъ. Быть человѣкомъ — это главное. Это
самоцѣль. А тамъ русскiй, французъ, нѣмецъ, японецъ — не все ли одно?…
Это отсталыя зоологическiя понятiя… Я съ ними не считаюсь. Да что тамъ
говорить!… Мы люди разныхъ поколѣнiй… He стоитъ объ этомъ спорить.
Мишель охотно согласился остаться жить въ ихъ
маленькомъ домикѣ, носившемъ скромное наименованiе: — «Les Coccinelles».
Они осмотрѣли комнатушку наверху, переговорили съ хозяиномъ и на другой
же день Мишель перебрался со своимъ болѣе, чѣмъ скромнымъ скарбомъ
къ родителямъ. Онъ сдѣлалъ это не потому, что ему прiятно и радостно было
зажить съ родителями — у него этого чувства не было — а потому, что нашелъ это
для себя во всѣхъ отношенiяхъ выгоднымъ. Онъ этого и не скрывалъ. Онъ
установилъ въ своей комнатѣ свои порядки, какъ ему было удобно, не
стѣсняясь никѣмъ и ничѣмъ.
— Здѣсь я физ-культурой могу заниматься,
— сказалъ онъ, — да и жилплощадь здѣсь больше, чѣмъ у меня на
старой квартиренкѣ. И платить меньше…
Совѣтскiя словечки и неприкровенный
матерьялизмъ и практичность коробили его мать, но она промолчала. Онъ въ этомъ
не былъ виноватъ. Она надѣялась, что съ теченiемъ времени, ей удастся
перевоспитать его и вернуть къ Богу и къ семьѣ.
Тѣмъ болѣе не могла она обвинять
сына, что она знала, кто виноватъ во всемъ ужасномъ крушенiи Россiи. Вся
исторiя послѣднихъ лѣтъ была ею глубоко продумана и приговоръ былъ
постановленъ.
III.
Тотъ самый ѣдкiй, нудный и непрерывный
звонокъ, который будилъ Мишеля Строгова, заставлялъ просыпаться и его мать,
Ольгу Сергѣевну. Она открывала глаза, смотрѣла на чуть
сѣрѣвшую щель между занавѣсью и окномъ и съ мучительнымъ
сердечнымъ надрывомъ думала: — «Господи, хотя бы не заводилъ онъ такъ полно!…
Еще и еще… Когда же это кончится? He могу я больше, кричать готова… Это хуже
зубной боли… И теперь я уже ни за что не засну… А вѣдь только всего шесть
часовъ».
Она и точно не засыпала. Длиннымъ свиткомъ разворачивались
передъ нею послѣднiе, страшные годы жизни. Она, прищурясь, смотрѣла
на спину лежащаго рядомъ мужа. Она въ эти минуты всѣми силами души
ненавидѣла его.
«Кто виноватъ?.. Онъ во всемъ виноватъ!… Онъ!…
Они, ему подобные!… Боги!… Правители!… Рѣшители нашей, простыхъ смертныхъ
судьбы… Полковникъ Генеральнаго Штаба… Всегда «выдающiйся», хвалящiйся точнымъ
исполненiемъ долга. Да гдѣ же это исполненiе долга?… Военные, такiе, какъ
ея мужъ, вотъ, кто виновники всего, всего, что случилось. Она дѣвчонкой,
когда онъ начиналъ ухаживать за нею, знала, въ чемъ сущность военной службы и
солдатскаго долга. Тогда она гордилась, что за нею ухаживаетъ военный… Жена защитника
Престола и Отечества! Эту радостную гордость она усвоила съ первой брачной
ночи, когда такой красивый и эффектный явился онъ къ ней въ спальню въ полной
парадной формѣ и, взявъ шашку подвысь и салютуя ей, сказалъ: — «
надѣюсь, что вы готовы исполнить вашъ долгъ жены»… Это было такъ красиво
и сильно: — долгъ!… И ихъ жизнь прекрасно и ярко началась. Она свой долгъ жены
исполняла и дальше свято и честно, безъ компромиссовъ. Она на войну пошла
сестрою милосердiя, и безъ трепета, ничего не боясь, понесла свой долгъ сестры…
«Ну, а вотъ вы, вы всѣ офицеры и генералы Генеральнаго Штаба, стратеги,
«наполеоны», исполнили вы свой долгъ и можетъ быть спокойна сейчасъ ваша
совѣсть?.. Спитъ… И не подозрѣваетъ, что я про него думаю… что знаю
и въ чемъ обвиняю… Да, обвиняю… Гдѣ и въ чемъ былъ вашъ долгъ?»
Вдругъ встала въ ея памяти громадная
разоренная пожаромъ войны страна, по которой она проѣзжала въ санитарной
двуколкѣ. Ряды обугленныхъ березъ по сторонамъ дороги и торчащiя изъ
чернаго пепелища кирпичныя трубы. Точно увидала она въ это утро потревоженнаго
сна испуганную дѣтвору, женщинъ съ голодными глазами, бѣгущихъ,
куда глаза глядятъ, услышала вновь въ это Парижское утро изъ холоднаго далека
тѣ слова, что такъ часто слышала она въ тѣ ужасные годы: — «Вшистко
знищено… Жолнержи були — вшистко забрали… Дѣтей кормить нечѣмъ»…
Чьи жолнержи?… Защита отечества?… Точно видѣла она сейчасъ это отечество,
не защищенное, не обороненное войсками. Она отлично помнила, какъ, когда
готовился ея мужъ къ поступленiю въ Академiю висѣла въ ихъ спальнѣ
громадная карта этого самаго отечества. Она наизусть заучила его границы. Отъ
Варангеръ фiорда на юго-востокъ, не доходя до рѣки Муонiо… А тамъ отъ
Мемеля… Вотъ вьется она прихотливымъ изгибомъ блѣдно зеленая,
оттѣненная по краю государственная неприкосновенная
граница. Загибаетъ, широкимъ языкомъ вдавливается въ нѣмецкую землю,
очерчивая десять губернiй Царства Польскаго. Защита Отечества есть защита этой
зеленой линiи и долгъ армiи никого туда за нее не пустить. Въ мiровой
войнѣ только Германская Армiя усвоила эту истину и выполнила въ полной
мѣрѣ свой долгъ передъ народомъ… Всѣ остальныя шли на
компромиссъ… «По стратегическимъ соображенiямъ»… Какъ негодовала она уже и
тогда, когда «по стратегическимъ соображенiямъ» сводили въ ничто всѣ
потери, всѣ жертвы, весь героизмъ войскъ, всю пролитую солдатскую кровь и
отступали, сжигая дома и селенiя, не думая о жителяхъ «отечества». Тогда
зародилась въ ней еще неосознанная, непродуманная до конца ненависть ко
всѣмъ военнымъ, не исполнившимъ элементарнаго долга, тогда она перестала
понимать и уважать мужа… «Защита Престола»… По «политическимъ соображенiямъ»
изъ за призрака какого то сепаратнаго мира, изъ за оклеветанной Императрицы
измѣнили Престолу и не стали его защищать… Вотъ и дошли до большевизма…
Кто же виновенъ?..
Ужасъ положенiя Ольги Сергѣевны
заключался въ томъ, что никому, и менѣе всего мужу, могла она сказать все
то, что передумала за эти страшные годы переоцѣнки цѣнностей. Кто
пойметъ ее? Кругомъ — такое самолюбованiе! Кругомъ незыблемая увѣренность
въ своей правотѣ, въ
побѣдѣ. Ей становилось жутко. Сказать все то, что у нея
накопилось на душѣ — ее сочтутъ за «лѣвую»… А нѣтъ!… Только
не это!!… Нѣтъ, она не лѣвая… Отнюдь не лѣвая… Она
болѣе «правая», чѣмъ всѣ они. Ей Престолъ и Отечество не
пустые звуки… Какъ бы она ихъ защищала!… Бога она не обвиняла. Она была
слишкомъ умна и образована, чтобы мѣшать Господа въ свои людскiя
дѣлишки и винить Его за свои лѣность, трусость и неграмотность.
Нѣтъ, она опредѣленно обвиняла во всѣхъ и своихъ, и чужихъ
несчастiяхъ тѣхъ, кому такъ много было дано и кто своего долга не
исполнилъ. Она слушала, какъ при ней разсказывали о недостаткѣ патроновъ
и оружiя. Она молча и нехорошо улыбалась. — «Зачѣмъ не берегли», — думала
она. Она то видѣла, путешествуя по тыламъ, брошенныя винтовки, воткнутыя
штыками въ землю и цѣлыя розсыпи патроновъ на оставленныхъ нами позицiяхъ.
Она часто слышала, какъ восхищались «солдатикомъ», принесшимъ въ лазаретъ не
брошенную винтовку, но она никогда не слыхала, чтобы обругали и тѣмъ
болѣе наказали солдата, пришедшаго безъ оружiя и патроновъ. Кто же былъ
виноватъ въ этой распущенности и послабленiяхъ?… Все они же!… Начальники!… А
теперь?… Офицеры республиканцы… Офицеры революцiонеры… А вотъ изъ за нихъ — эта
каторжная жизнь, эта работа въ Парижской конторѣ и выстукиванiе на маленькой
стенографической машинкѣ никому ненужныхъ и совсѣмъ неинтересныхъ
приказанiй и писемъ «патрона».
Она пѣла въ церковномъ хорѣ
Евлогiанской церкви. И она научилась компромиссу. Она пошла въ Евлогiанскую
церковь потому, что тамъ регентъ былъ лучше и лучше оцѣнили ея голосъ.
Она презирала себя за это, а вотъ все-таки не могла отказаться. Ей церковь
давала такую отраду. Такъ радостно было придти въ нее въ воскресенье утромъ,
когда еще никого нѣтъ, купить на три франка свѣчекъ и пойти ставить
ихъ передъ иконами. Она гибко опускалась на колѣни, шептала съ
дѣтства знакомыя молитвы, потомъ поднималась, и съ крѣпкою
увѣренностью въ нужности того, что она дѣлаетъ, ставила
свѣчи. Она смотрѣла на бумажныя иконы, на скромный иконостасъ — его
она и другiя женщины колонiи сдѣлали своими руками — и ей казалось, что
тутъ все таки есть правда, которая ушла изъ жизни. Она смущалась лишь однимъ —
ей порою казалось, что и это ненастоящее, какъ вся ея жизнь стала ненастоящей.
За свѣчнымъ ларемъ стоялъ отецъ дiаконъ. Онъ былъ коренастый,
сѣдой, съ коротко остриженными волосами, похожiй въ узкомъ черномъ подрясникѣ
на ксендза. Онъ прiятнымъ баскомъ подпѣвалъ ихъ маленькому хору. Но въ
немъ не было того духовнаго, что привыкла она видѣть у дiаконовъ въ
Россiи, и не могла она позабыть, что дiаконъ въ недавнемъ прошломъ — уланскiй
ротмистръ и что у Сусликовыхъ онъ прекрасно подъ гитару поетъ цыганскiя
пѣсни. И церковь и вся служба иногда вдругъ казались какими то
призрачными, точно сонными видѣнiями. И тогда являлось сомнѣнiе въ
существованiи Бога.
Когда она возвращалась, ее встрѣчала
«мамочка» и, криво улыбаясь, говорила:
— Ну что же ты намолила у твоего Бога. По
крайней мѣрѣ узнала, когда же мы вернемся въ Россiю?..
IV.
Мамочка больше не вѣрила въ Бога. Въ
свои семьдесятъ лѣтъ Неонила Львовна Олтабасова ударилась въ самый
крайнiй матерьялизмъ.
— Столько было молитвъ, — говорила она, — и
Государь и Императрица были подлинно святыми людьми. Если бы Богъ былъ — Онъ
ихъ помиловалъ бы… А теперь, прости меня Оля, но какая же это церковь?… Какая и
гдѣ вѣра?… И смѣшно вѣрить, когда живешь въ такой
странѣ, какъ Францiя, гдѣ такъ просто и удобно обходятся безъ Бога.
Неонила Львовна создала свою теорiю какихъ то
«винтиковъ», еще не изслѣдованныхъ, но которые вотъ вотъ будутъ открыты
учеными, изслѣдованы и изучены, и тогда все станетъ ясно и понятно, и
никакого Бога для объясненiя тѣхъ или иныхъ явленiй не понадобится. Она
жадно хваталась за газеты и въ нихъ искала новыхъ открытiй и изслѣдованiй
въ области физiологiи, геологiи, археологiи, астрономiи и психологiи. И на
каждое она смотрѣла съ точки зрѣнiя доказательства отсутствiя
Высшей Силы, отрицанiя Бога.
— Вотъ, — говорила она, съ газетнымъ
раскрытымъ листомъ входя въ комнату дочери, когда та, усталая и измученная
дневной работой, переодѣвалась и умывалась. — Вотъ, ученые дознались, что
вселенная не безпредѣльна, а что и ей предѣлъ есть. Въ миллiонахъ
лѣтъ свѣтовыхъ лучей радiусъ этотъ, а все таки онъ есть. Вотъ
тебѣ и Богъ.
— Вы путаете, мама, — съ досадою говорила
Ольга Сергѣевна. Ей противно было смотрѣть на мать. Въ длинномъ,
старомодномъ черномъ платьѣ, съ коротко остриженными, сѣдыми,
гладко причесанными волосами, — если сзади смотрѣть, когда она сидитъ, и
не узнаешь, мужчина или женщина, — неопрятная и распухшая старушка съ новыми и
такими «нигилистическими» разсужденiями казалась ей ужасной и ей было страшно,
что такъ она думаетъ про свою мать.
— Ничего я не путаю. Читала еще, что нашли
черепъ человѣка въ Африкѣ. И тотъ черепъ миллiонъ лѣтъ
пролежалъ въ землѣ… Вотъ тебѣ и Адамъ!… Ученые теперь доказали, что
человѣкъ существовалъ гораздо ранѣе Бога.
Она съ торжествомъ поджимала губы и
маленькими, блестящими, сверлящими глазками смотрѣла на дочь.
— Я увѣрена… я вполнѣ
увѣрена, что будетъ день, когда и мои «винтики» откроютъ.
— Какiе «винтики», мама, — съ сердцемъ
говорила Ольга Сергѣевна.
— А вотъ эти самые, которые все дѣлаютъ.
И ты думаешь… Богъ?… Это Богъ войну, или грозу, или ведро послалъ?… или
человѣкъ умеръ?… Волею Божьей? Это просто — «винтики» такiе въ
природѣ вещей. Падаютъ они съ неба, попадаютъ въ атмосферу, поворачиваютъ
такъ и эдакъ — и наше вамъ! — война… или вдругъ гриппъ ходитъ по городу… или
отецъ убилъ дочь, или Кюртенъ какой нибудь проявился… И я увѣрена, что
дойдутъ до того, что и ихъ будутъ ловить i подчинять себѣ, вотъ какъ
электричество. Летятъ они, чтобы война тамъ что ли была, а ихъ ученые какими нибудь
тамъ радiосѣтями поймаютъ… и нѣтъ войны… Вотъ и надули твоего Бога…И
безъ всякихъ молебновъ миръ на землѣ. Раньше наши мужики въ засуху, бывало,
все молебны служили, съ хоругвями вокругъ полей ходили, а вотъ какъ поймаютъ и
подчинятъ себѣ эти «винтики», такъ и не надо никакихъ поповъ. Наставилъ
аппаратъ — и на тебѣ — дождь, или солнышко, что тебѣ угодно.
— Оставьте, мама. Начитались вы газетныхъ научныхъ
фельетоновъ и думаете невѣсть какую премудрость постигли. Базаровы это раньше
вашего говорили. Мнѣ это просто тяжело отъ васъ слушать.
— Почему тяжело, — обижалась старуха.
— Вы старый человѣкъ… О другомъ вы
должны думать… Какъ же умирать то будетъ вамъ тяжело, когда вы ни во что не
вѣрите?
Старуха недовольно крутила носомъ и уходила,
шурша газетой изъ комнаты дочери.
— Поди, скажешь тоже. Кому извѣстно, кто
когда помретъ. Можетъ быть, еще мнѣ тебя хоронить то придется.
— Все отъ Бога, мамочка, — стараясь говорить кротко,
говорила ей вслѣдъ Ольга Сергѣевна.
— Это какъ «винтики».. Куда, въ какую сторону повернутся.
На тебя или на меня… А вотъ откроютъ ихъ, и умирать не придется. Сколько
пожелаетъ человѣкъ, столько и проживетъ.
Противны и жутки были такiя рѣчи въ
устахъ человѣка, уже стоявшаго одною ногою въ гробу.
V.
Пронзительный звонокъ будильника въ комнатѣ
Мишеля Строгова пробуждалъ и Неонилу Львовну. Она, кряхтя и охая, поднималась
съ широкаго ложа и, шлепая туфлями, шла къ столу разжигать керосиновый примусъ.
Она готовила на всю семью утреннiй кофе.
Только полковникъ Георгiй Димитрiевичъ
Нордековъ продолжалъ спать крѣпкимъ сномъ не знающаго заботъ
человѣка. Онъ увѣрялъ, что никакой шумъ, если только онъ лично его
не касается не можетъ помѣшать ему спать. Онъ разсказывалъ, что на
войнѣ онъ спалъ крѣпчайшимъ сномъ подъ грохотъ канонады и трескъ
разрывающихся снарядовъ, и моментально вскакивалъ едва чуть слышно рипѣлъ
подлѣ него полевой телефонъ.
Полковникъ Георгiй Димитрiевичъ былъ
человѣкъ военный. Точно съ того дня, какъ затянули его въ кадетскiй
мундирчикъ, онъ выковался въ подлиннаго солдата и ничто не могло поколебать или
измѣнить его солдатской души. Какъ раньше онъ твердо вѣрилъ въ правоту
отступленiй «по стратегическимъ соображенiямъ», не сомнѣвался въ томъ,
что они побѣдили бы, если бы не проклятая революцiя, такъ и потомъ,
«смѣнивши вѣхи», снявъ лозунги: — «за вѣру, царя и отечество»
и замѣнивъ ихъ сначала: — «за учредительное собранiе», потомъ: — «за
единую, великую, недѣлимую Россiю» и, наконецъ: — «за нацiональную
Россiю» онъ ни на минуту не сомнѣвался въ правотѣ своего дѣла
и въ правильности работы «вождей».
Крѣпкiй, пятидесятилѣтнiй сангвиникъ,
въ мѣру пополнѣвшiй, съ красивымъ, холенымъ, всегда чисто
выбритымъ, розовымъ лицомъ, съ густыми волосами, причесанными на проборъ, онъ
былъ ловокъ и строенъ безъ всякой гимнастики. Членъ многихъ офицерскихъ объединенiй,
предсѣдатель своего полкового объединенiя, неутомимый посѣтитель
всѣхъ обѣдовъ, банкетовъ, чашекъ чая, лекцiй, внимательный и
восторженный слушатель рѣчей на нихъ произносимыхъ — онъ съ дѣтскою
пррстотою вѣрилъ во все, что тамъ говорилось.
Жидовская тракспортная контора, гдѣ онъ
служилъ, возка ящиковъ съ таможни и на таможню, провѣрка коносаментовъ и
накладныхъ, ловкое сованiе франковыхъ монетъ въ руку вѣсовщикамъ — это
все было временное. Это не была жизнь. Просто дурной сонъ. Жизнь начиналась
тогда, когда они собирались въ задней комнатѣ третьеразряднаго
французскаго ресторана, гдѣ для этого случая развѣшивали по
стѣнѣ Русскiй флагъ, портреты «вождей» и полковые флюгера, когда
человѣкъ семьдесятъ пожилыхъ людей въ скромныхъ черныхъ пиджакахъ по
командѣ старшаго «господа офицеры» прекращали разговоръ и куренiе и
вытягивались у своихъ стульевъ, и входилъ генералъ въ такомъ же пиджакѣ,
какъ и они. Тогда начинались воспоминанiя, рѣчи, старые анекдоты старыхъ
временъ. И точно хорошее вино, чѣмъ старѣе становились они,
тѣмъ крѣпче чувствовались. На этихъ обѣдахъ всегда была
бодрость вѣры въ завтрашнiй день — и… въ конечную побѣду. На нихъ
говорили о Россiи. Они еще не смѣли пѣть Русскiй гимнъ. Одинаково
воспитанные и равно пришибленные судьбою они были разныхъ убѣжденiй и
считали неделикатнымъ что нибудь навязывать другому. Пѣли полковыя
пѣсни, пѣсни войны и съ блестящими отъ выступившихъ слезъ глазами
слушали рѣчи ораторовъ. Это и была настоящая жизнь. Все остальное былъ
дурной кошмарный сонъ.
Вчера въ день ихъ училищнаго праздкика ихъ
собралось сто двадцать человѣкъ. Маленькiй крѣпкiй, бритый генералъ
(онъ былъ среди нихъ старшимъ и по выпуску и положенiемъ) отчетливо, чеканя
слова говорилъ съ большимъ подъемомъ страстную рѣчь. Цѣлительнымъ
бальзамомъ въ израненныя души вливались его слова.
Гдѣ то на верху сейчасъ звенѣлъ
будильникъ и надъ головою и такъ, что гнулись доски потолка, топалъ босыми
ногами его сынъ — Мишель Строговъ — а полковникъ, проснувшiйся раньше
обыкновеннаго ничего этого не слышалъ и не замѣчалъ. Онъ снова и снова
переживалъ эту бодрящую, освѣжающую душу рѣчь ихъ руководителя.
— Мы, господа, — повторялъ про себя полковникъ
такъ запомнившiяся ему чудныя слова, — не покинули театра военныхъ
дѣйствiй. Кругомъ царитъ миръ… Да это правда, но это кажущiйся только
миръ. Война съ большевиками, война за Россiю продолжается…
Это было главное. Это было самое
утѣшительное. И какъ это, очаровательно что ли? выходило что вотъ онъ,
полковникъ Нордековъ, лежитъ себѣ спокойно на Виллѣ «Les Coccinelles»,
потомъ поѣдетъ въ свою транспортную контору, а война все таки
продолжается. Нордековъ зналъ, что такое война. Ему приходилось на войнѣ
по одиннадцати сутокъ быть безъ настоящаго сна… Онъ зналъ, что значитъ голодъ…
Онъ зналъ, что значитъ обстрѣлъ тяжелыми батареями, вой, гулъ и трескъ
лопающихся снарядовъ, ядовитый запахъ газовъ и тошное ожиданiе смерти, когда
совсѣмъ пересыхаетъ во рту и глохнетъ ухо… онъ зналъ, что такое «война
продолжается» и тѣмъ не менѣе ему такъ отрадно было слышать эти
слова въ мирной обстановкѣ Парижскаго ресторана. Да, война продолжается…
Они находятся въ тылу… Развѣ и на войнѣ не бываютъ дни отдыха,
затишья, когда послѣ тяжелыхъ боевъ отведены въ глубокiй тылъ и ждутъ
пополненiй?… Правда, это стоянiе въ резервѣ длится немного долго… Скоро
одиннадцать лѣтъ, какъ смолкъ гулъ пушечной канонады… Но… услужливая
память подсказывала примѣръ изъ исторiи и какой примѣръ!… Самого
Суворова… He жилъ ли онъ почти четыре года въ селѣ Кончанскомъ, ходилъ въ
церковь, звонилъ на колокольнѣ, читалъ на клиросѣ, училъ
деревенскихъ ребятъ… И вдругъ… Итальянскiй походъ и переходъ черезъ Альпы!… Да…
эти слова были колдовскiя, чудныя, несказанно прекрасныя слова. Они все звучали
въ ушахъ, какъ великолѣпный сонъ, съ которымъ не хочется разстаться…
— Война не прекращалась ни на минуту, и она не
можетъ прекратиться. И тѣ, кто объ этомъ, быть можетъ, по малодушiю
своему забывали — пусть почувствуютъ напоминанiе этого въ похищенiи Кутепова…
Это прорывъ нашего фронта. Военныя дѣйствiя продолжаются… Они требуютъ
единоначалiя… Я поднимаю высоко бокалъ за нашего предсѣдателя… Ваше
превосходительство, дерзайте!… Требуйте отъ насъ безпрекословнаго подчиненiя и
знайте, что мы исполнимъ свято всякое ваше приказанiе…
Тогда, вчера, казалось, что они встанутъ
послѣ этого и всѣ вмѣстѣ пойдутъ на rue de Grenelle
мстить за генерала Кутепова… Война продолжается… Фронтъ прорванъ… Онъ долженъ
быть возстановленъ…
Они никуда не пошли…
Но, когда тихонько, на носкахъ, боясь воркотни
жены, во второмъ часу ночи, крался полковникъ къ себѣ на rue de la Gare и осторожно вставлялъ
ключъ въ замочную скважину — бурно колотилось его сердце…
«Военныя дѣйствiя» продолжались
гдѣ то, помимо него…
Онъ спалъ безпокойнымъ, прерывчатымъ сномъ.
Просыпался и думалъ: — «а вѣдь и точно:
— какое то движенiе, сдвигъ какой то есть… Возможно, что французы?… Они,
кажется, уже поняли… Да, конечно, мѣшаетъ Брiанъ… Но не вѣчно онъ
будетъ сидѣть министромъ… Работа Коти… «L'Ami du Peuple» подготовляетъ
общественное мнѣнiе… Во Францiи пресса это все… Сербiя плац-д-армомъ…
Тамъ русскiя формированiя… Что же, пожалуй?… дивизiя?…»
У полковника въ рыночномъ письменномъ
столѣ, въ лѣвомъ ящикѣ и подъ ключомъ лежала большая тетрадка,
то, что въ старину называли «брульономъ» (теперь и слова этого не знаютъ). Въ
немъ бисернымъ, аккуратнымъ почеркомъ онъ заносилъ:
«Обученiе звена и взвода въ двухъ недѣльный
срокъ». «Обученiе роты въ три недѣли». «Пять тактическихъ ученiй
батальона». «Тактическая задача для трехъ батальоннаго полка». «Пулеметныя
отдѣленiя въ строю роты». «Служба связи батальона, полка и дивизiи» — все
плоды долгихъ и серьезныхъ размышленiй, боевого опыта великой и гражданской
войнъ.
Все это пригодится въ тотъ часъ, когда… Онъ
этого часа ждалъ и вѣрилъ, что этотъ часъ придетъ…
И вдругъ ноги холодѣли. Отъ нихъ
бѣжалъ ледяной токъ къ головѣ. Мысль стыла.
«Нѣтъ, никогда иностранцы не помогутъ. А
впрочемъ для чего въ самомъ дѣлѣ намъ иностранцы?…». На
послѣдней лекцiи, гдѣ былъ полковникъ, лекторъ представилъ
аудиторiи какого то краснаго летчика, перелетѣвшаго изъ С.С.С.Р. для
спасенiя своей заблудившейся въ «право-лѣвацкихъ» уклонахъ души. И тотъ
летчикъ съ развязной самоувѣренностью разсказывалъ, что красная армiя —
армiя нацiональная, любящая Россiю и что будетъ день, когда она прогонитъ отъ
себя коммунистовъ и сольется съ «бѣлой армiей» и тогда всѣ старые
Русскiе офицеры найдутъ въ ней мѣсто и работу.
Тогда его брульонъ, его знанiя, его боевой
опытъ пригодятся. Онъ перебиралъ въ памяти фамилiи своихъ товарищей по
академiи, оставшихся по ту сторону и служившихъ большевикамъ. Какъ то
встрѣтится онъ съ ними? Подастъ имъ руку? Найдетъ общiй языкъ для
разговора? Какъ подойдетъ онъ къ строю вчерашнихъ красноармейцевъ и что скажетъ
имъ? И что это будетъ за строй?… Дивизiя?… Полкъ?… Хотя бы батальонъ!…
Эти мысли прогоняли сонъ… Но отнять эти мысли,
— и не будетъ смысла жить… Что тогда останется?…
Ненавидящая, презирающая и плохо это
скрывающая жена?… Матерьялистка «мамочка»?… И сынъ — хулиганъ, едва ли не
большевикъ, Мишель Строговъ!…
Жить не стоитъ… Засунуть поглубже въ ротъ холодное
дуло револьвера и гдѣ нибудь въ глуши… Въ Версальскомъ лѣсу, или въ
лѣсу Фонтенебло… «Sauter la cervelle», какъ говорятъ французы.
Жить безъ этихъ мечтанiй… О Россiи?… Объ армiи?…
О томъ, что еще куда то пригодишься?… Невозможно…
Его жена встала и торопливо совершала свой несложный
утреннiй туалетъ. Полковникъ лежалъ, прикрывъ глаза, и наблюдалъ ее. Какъ
обезобразили ее остриженные волосы!… И какая сѣдина въ нихъ!… Когда то
онъ такъ сильно и страстно любилъ ее… Цѣловалъ въ шею ниже затылка, гдѣ
теперь щетиной торчатъ неопрятные волосы… Бѣдность?… Да, пожалуй, и
бѣдность.
— Вставайте, Георгiй Димитрiевичъ, —
повернувшись отъ маленькаго зеркала, сказала ему Ольга Сергѣевна. — А то
опять вашу газету не успѣете прочитать.
Полковникъ открылъ давно не спящiе глаза, для
приличiя потеръ ихъ и сразу обѣими ногами сталъ на полъ. Онъ шагнулъ къ
двери, вышелъ въ крошечиую переднюю, гдѣ на вехоткѣ лежала Топси,
погладилъ заласкавшуюся къ нему собаку, открылъ ей дверь и крикнулъ внизъ:
— Нифонтъ Иванычъ, откройте, пожалуйста, дверь
собакѣ… Какая погода?…
Снизу, откуда былъ слышенъ стукъ молотка, раздался
бодрый стариковскiй голосъ:
— Заразъ, ваше высокоблагородiе. Молоточекъ
прекратилъ свою дробь. Внизу скрипнула дверь, и тотъ же голосъ добавилъ:
— А похода есть — дождь!
VI.
Топси — собака особенная. Когда и кто училъ ее
этимъ премудрымъ штукамъ — никто не помнитъ. Кажется, полковникъ, когда былъ
безработнымъ, скуки ради, объяснялъ внимательно жолтыми топазами, не мигая
смотрѣвшей на него собакѣ, что у газетчика въ ларькѣ на place
de la Gare есть
разныя Русскiя и французскiя газеты. Есть «Возрожденiе», гдѣ редакторомъ
Петръ Бернгардовичъ Струве, другъ Добровольческой Армiи, и есть
«Послѣднiя Новости», гдѣ редакторомъ Павелъ Николаевичъ Милюковъ —
врагъ Добровольческой Армiи, есть газета «Liberte» — хорошая газета и есть
газета «L'Humanite», очень даже скверная газета. По утрамъ надо приносить
газету «Возрожденiе». Полковникъ подносилъ къ носу Топси еще влажный, утреннiй
номеръ и давалъ его нюхать. Топси слегка воро тиланосъ — пахло совсѣмъ
невкусно — типографской краской, — но брала, брезгливо поджимая губы и языкъ и
морщась, свернутый номеръ и покорно шла за полковникомъ. Потомъ она научилась
дѣлать это самостоятельно. Газетчикъ давалъ ей нужную газету, получая отъ
полковника разсчетъ по окончанiи мѣсяца.
Топси выбѣжала за калитку крошечнаго
палисадника, по узкой дорожкѣ, покрытой асфальтомъ, пробѣжала къ
воротамъ, мимо маленькихъ, еще спящихъ дачъ и свернула на rue de la Gare.
Моросилъ мелкiй дождь. Непрiятная была погода.
«Людямъ хорошо», — думала Топси, — «у нихъ есть зонтики, а какъ я донесу
газету, не промочивъ ее?
Полковникъ опять будетъ ругаться, а «мамочка»
выгонитъ изъ теплой комнаты отъ «саламандры», и будетъ ворчатъ, что отъ меня пахнетъ
псиной… Эхъ, жизнь собачья!…»
Поднявъ на спинѣ ершомъ шерсть, Топси,
бѣжала знакомыми улочками, избѣгая place du Marche, гдѣ
всегда бывали собаки, и гдѣ жилъ отвратительный кобель Марсъ, длинный, на
короткихъ лапахъ, съ жесткою, какъ щетина, во всѣ стороны торчащею шерстью
шоколаднаго цвѣта и съ мордой, такъ заросшей волосами, что еле были видны
черные глаза. И это чучело морское, говорятъ, — люди, конечно, говорятъ — очень
модная собака!… Этотъ негодяй не пропускалъ ни одной корзины съ салатомъ, или
картофелемъ, ни одной груды кочановъ цвѣтной капусты, положенныхъ
подлѣ ларьковъ на рынкѣ, чтобы ихъ не опрыскать. Завидѣвъ
Топси, дѣловито бѣгущую съ газетой въ зубахъ, онъ норовилъ наскочить
на нее сзади и осѣдлать ее своими безобразными, короткими лапами. Онъ
тогда тяжело дышалъ, какъ толстый старикъ, и длинный красный языкъ торчалъ изъ
безобразной, косматой, шерстистой морды, какъ флагъ революцiи надъ лохматыми
головами пролетарiата. Надо было увернуться, огрызнуться, можетъ быть, даже и
хватить зубами нахала, а какъ это сдѣлать, когда газета зажата въ пасти и
нельзя ее выронить на грязной дорогѣ?
У газетнаго ларька стоялъ Лимонадовъ. Топси
знала его. Это былъ пожилой господинъ, поэтъ, кажется, единственный Русскiй, съ
кѣмъ полковникъ никогда не раскланивался. Говорятъ: — большевикъ!… Топси
было непрiятно становиться при немъ на заднiя лапы, опираясь передними о край
прилавка и ждать, когда торговецъ достанетъ нужную газету.
Лимонадовъ о чемъ то говорилъ съ газетчикомъ,
кивая головою на собаку, и оба смѣялись.
Продавецъ подалъ газету Топси. Той
хотѣлось поскорѣе отдѣлаться отъ непрiятной компанiи, и она,
схвативъ газету клыками, и стараясь возможно меньше намочить ее на дождѣ,
опрометью бросилась отъ прилавка.
Лимонадовъ и газетчикъ провожали ее почему то
дружнымъ хохотомъ.
«Мерзавцы!…»
Полковникъ ждалъ въ «мамочкиной»
комнатѣ, гдѣ кипѣлъ на примусѣ коричневый кофейникъ и
пахло керосиномъ, кофе и булками. Тамъ сидѣлъ совсѣмъ готовый,
чтобы идти на работу Мишель Строговъ въ каскеткѣ на затылкѣ, и,
держа обѣими руками большую тяжелую чашку, пилъ горячiй кофе.
Топси, какъ это и полагалось по ея собачьему
ритуалу, открыла лапой притворенную дверь, подбѣжала, любезно извиваясь
всѣмъ тѣломъ и виляя короткимъ, обрубленнымъ хвостомъ, къ
полковнику, сѣла передъ
нимъ, осторожно толкнула его лапой и подняла
голову съ газетой.
Но полковникъ вмѣсто того, чтобы взять
газету изъ зубовъ Топси, поласкать ее по головѣ и дать ей кусочекъ
сахару, сдѣлалъ свирѣпые глаза и такъ посмотрѣлъ на Топси,
что та перестала вилять хвостомъ и уронила газету на полъ.
— Ты что принесла, стерва?… А?…
Топси виноватыми глазами смотрѣла на полковника.
— Нѣтъ, посмотрите, пожалуйста, какая
это каналья здѣсь издѣвается надо мною!… Я этому мерзавцу Жюльену
пойду и морду набью!
Полковникъ схватилъ съ пола свернутый, мокрый
листъ газеты и съ силою злобно ударилъ имъ по носу Топси. Собака отвернулась и
заморгала глазами. Въ жолтыхъ топазахъ отразились недоумѣнiе и страхъ.
Полковникъ сталъ бить приникшую къ землѣ собаку по чемъ попало. Топси
жалобно визжала. На ея визгъ вбѣжали теща и Ольга Сергѣевна.
— Ты мнѣ что принесла, дрянь? —
бѣшено кричалъ полковникъ. — Ты мнѣ жидовскую газету принесла!… Ты
что издѣваешься надо мною?..
— Оставьте собаку, Георгiй Димитрiевичъ, —
закричала Ольга Сергѣевна. — Развѣ она понимаетъ, что ей даютъ?…
Можетъ быть «Возрожденiе» сегодня не вышло почему либо, и газетчикъ ей далъ эту
газету.
— He брать была должна!… Я ее, дуру, училъ…
Сколько разъ нюхать давалъ и ту и другую.
— Ее читать было нужно учить, а не нюхать, —
сказалъ съ насмѣшкою Мишель Строговъ и съ трескомъ поставилъ на круглый
столъ пустую чашку.
— Ты что щен…
Мишель Строговъ узко поставленными, строгими,
сѣрыми, маленькими глазами посмотрѣлъ на отца и повелъ широкими
плечами. Лицо изъ подъ круглой рабочей каскетки казалось наглымъ. Что то
хулиганское, «большевицкое» было въ немъ и отъ взгляда Мишеля,
насмѣшливаго и властнаго холодъ прошелъ по жиламъ полковника. Молнiей
пробѣжала мысль — «трогать его нельзя. Нынѣшняя молодежь… Ей что?…
Она и на отца руку подниметъ… Или совсѣмъ уйдетъ… А онъ съ его
шофферскимъ заработкомъ — главная опора семьи».
Полковникъ сталъ совать газету въ пасть
собакѣ и говорить сердито, стараясь не глядѣть на сына.
— Пойди и перемѣни!… Пойди и
перемѣни! Мишель Строговъ все такъ же насмѣшливо, какъ взрослый на
задурившаго ребенка смотрѣлъ на отца. Потомъ вздернулъ плечами, шмыгнулъ
носомъ и, ни съ кѣмъ не прощаясь, вышелъ изъ комнаты. Его тяжелые башмаки
загремѣли по лѣстницѣ. Звонко щелкнула желѣзная калитка
палисадника.
— Позвольте мнѣ газету, Георгiй
Димитрiевичъ, — сказала теща. — Я пойду и перемѣню вамъ ее.
Неонила Львовна была въ старомодной — изъ
Россiи еще — черной шляпкѣ грибомъ, въ черномъ старомъ платьѣ,
подобранномъ по манерѣ прабабушекъ резиновымъ пажомъ, въ порыжѣлой накидкѣ
и съ зонтикомъ въ рукѣ. Она отобрала отъ полковника газету, крикнула
собаку и пошла къ дверямъ. Топси, поджавъ хвостъ въ сознанiи горькой обиды,
покорно шла за нею. Въ прихожей она взяла въ зубы корзину. Это была другая ея
обязанность — носить за «мамочкой» провизiю.
Полковникъ, сердито фыркая, пилъ кофе. Противъ
него сидѣла Ольга Сергѣевна.
— Хотя бы воспользовались случаемъ и хоть разъ
почитали газету другого направленiя. А то на все смотрите глазами
«Возрожденiя», — говорила она наигранно спокойно.
Полковникъ мрачно молчалъ. Онъ косился на
часы, бывшiе у него на ремешкѣ на рукѣ и разсчитывалъ,
успѣетъ онъ встрѣтить тещу, или проще самому взять у газетчика, да
за одно и выругать его. И онъ придумывалъ слова, чтобы газетчикъ не слишкомъ
обидѣлся. «Especes de nouilles» — не сильно ли будетъ?… Хотѣлъ
спросить у жены, да побоялся: — смѣяться надъ нимъ станетъ.
Они вышли вмѣстѣ. Молча, толкаясь
раскрытыми зонтиками — полковникъ все никакъ не могъ научиться носить зонтикъ —
спустились по узкой пѣшеходной дорожкѣ къ станцiи. Молча
сидѣли рядомъ въ вагонѣ и, когда вышли, — онъ пошелъ вверхъ по
набережной, она направилась къ мосту съ золотыми статуями, самому красивому
мосту въ Парижѣ, носившему гордое, славное и звучное имя: — «мостъ
Императора Александра III».
Разставаясь они не обмѣнялись ни однимъ
словомъ. Не кивнули другъ другу головой. Не улыбнулись ласково. Они все давно
сказали другъ другу, и новыхъ ласковыхъ словъ у нихъ не было. Они не понимали
одинъ другого и потому не могли простить, онъ ея холодности къ нему, она той
тяжкой трудовой бѣдности, что смѣнила ихъ когда то безпечальное,
красивое житiе въ прежней Россiи.
Этотъ мостъ съ золотыми статуями всякiй разъ
невольно блескомъ своего имени возвращалъ ее къ воспоминанiямъ Петербургскаго
дѣтства. Печальная улыбка накладывала складки на ея еще красивое,
увядающее лицо, и она, шла, широко раскрывъ громадные, лучистые глаза и никого
не видя. Она спотыкалась о каменныя плиты, попадала ногою въ лужи и осуждала
всѣхъ тѣхъ, кого считала виновниками потери прекраснаго прошлаго и
въ ихъ числѣ и своего мужа.
«Георгiй Димитрiевичъ», — думала она. — «Какъ
ей… тогда… казалось… Георгiй Побѣдоносецъ… Димитрiй Донской — побѣдитель
татаръ на Куликовомъ полѣ… И не побѣдоносецъ… Ку-у-да!… И чьи
теперь побѣды, въ чьихъ рукахъ Куликово поле и берега Дона и Непрядвы?…»
VII.
Этотъ день былъ для Топси сложнымъ и труднымъ.
Когда съ утра не повезетъ, то ужъ не повезетъ!
Но Топси съ честью вышла изъ труднаго
положенiя и Зося, «ами» Фирса Агафошкина, когда выслушала разсказъ Неонилы
Львовны о всѣхъ подвигахъ Топси, хлопнула себя мокрыми руками по бедрамъ
— она стирала Фирсово бѣлье — и, блистая свѣтло голубыми глазами,
воскликнула:
— Алэ яки у насъ Топси, прошэ пани… Тэразъ
вшысци о ней бэндонъ мувить…
И точно Топси отличилась на все
мѣстечко. Она шла очень разсѣянная за Неонилой Львовной. Ея собачья
совѣсть была смущена, Чѣмъ она такъ провинилась передъ
полковникомъ?.. За что ее ругали и били?..
Она принесла какъ всегда газету?.. Что же
такое случилось?..
Въ булочной было много народа. Неонила Львовна
отобрала шесть простыхъ булочекъ для ужина и три хрустящихъ «круассана»
себѣ для кофе, положила еще въ корзину большой вѣсовой хлѣбъ
и все это сдала Топси. Въ своемъ разсѣянномъ съ утра состоянiи Топси и не
замѣтила, какъ старуха вышла лзъ булочной. Топси выскочила на улицу съ
корзиной въ зубахъ и посмотрѣла по сторонамъ. Нигдѣ не было видно
старухи. Топси вернулась обратно, поставила корзину въ углу и сѣла
рядомъ. Она думала: — «дождусь». Но сейчасъ нсе сообразила, что «мамочка» могла
пойти рядомъ въ мясную. Топси выскочила было снова, но тотчасъ и вернулась.
«Развѣ можно въ теперешнее время
оставить корзину съ булками?… Нынче народъ такой ненадежный. Вотъ, хоть взять
того же Лимонадова? Съ газетой это непремѣнно онъ что нибудь подстроилъ.
Пакость какую нибудь сдѣлалъ!… Свиснетъ кто нибудь у меня корзину, а я
отвѣчай… Люди!… Они такiе!… Отъ нихъ всего можно ожидать!…»
Булочникъ заинтересовался поведенiемъ собаки.
Онъ, казалось, читалъ ея мысли. Это онъ все потомъ и разсказалъ «мадамъ
Олтабассоффъ».
Топси между тѣмъ снова взяла корзину въ
зубы и пошла съ нею искать Неонилу Львовну. Она, не входя въ мясную, оглянула
глазомъ покупателей. Неонилы Львовны тамъ не было. Дошла до мелочной «ѐрiсеriе», тамъ
Неонила Львовна всегда брала масло. Нѣтъ… И тамъ не было старухи. Топси
постояла у дверей въ раздумьи и пошла обратно въ булочную.
«Хватится меня, а не меня, такъ булокъ и
придетъ «мамочка» обратно въ булочную. He пойдетъ она до мой безъ своихъ
хрустящихъ круассановъ. Теперь, когда всѣ ушли, самое то старухино
счастье начинается. Усядется съ газетой и станетъ кофеи распивать».
Топси поставила корзину въ самый уголъ и легла
рядомъ.
И точно — Неонила Львовна вернулась. Булочникъ
разсказалъ ей всѣ собачьи маневры, и старуха ласкала собаку, впрочемъ не
столько за ея умъ, сколько въ отместку за побои полковника. Они шли
вмѣстѣ подъ мелко сѣющимъ дождемъ. Старуха подробно
разсказывала собакѣ, какое наказанiе для нихъ всѣхъ отъ тупого
солдафона полковника и какъ онъ сегодня былъ несправедливъ къ Топси, а та слушала
ее, поднимая временами на нее жолтые топазы своихъ глазъ и настораживая уши.
Топси хотѣлось все разсказать про Лимонадова, да какъ скажешь, когда во
рту тяжелая корзина съ провизiей и совсѣмъ не умѣешь говорить по
человѣчески? Вилять хвостомъ?… Направо и налѣво?… Но это только Александръ
Ивановичъ Купринъ знаетъ «пуделиный языкъ», а мамочка — та ничего не пойметъ».
Дома опять были разсказы про Топсинъ умъ…
Восторговъ было не обобраться. Нифонтъ Ивановичъ сказалъ: — «Экiй умъ Господь
всякой твари послалъ».
Фирсова «ами» цѣловала собаку и
повторяла: — Алэ яки у насъ Топси, панъ Нифонъ, тэразъ вшысци о ней бэндонъ
мувить.
VIII.
Задолго до того, какъ рѣзкою,
надоѣдливою, заливистою трелью по всему сквозному домику зазвучалъ
будильникъ Мишеля Строгова, когда еще было темно на дворѣ, и бѣдный
разсвѣтъ не могъ пробиться сквозь туманы дождевой сѣтки — жолтымъ
огнемъ засвѣтились узкiя окна маленькаго подвальчика и на крыльцѣ
появился старый Нифонтъ Ивановичъ.
Онъ въ черномъ пальтишкѣ, надѣтомъ
поверхъ грубаго холщевого бѣлья — еще съ Дона — въ деревянныхъ,
французскихъ башмакахъ «сабо» на босу ногу и съ непокрытой головой. Щуря узкiе
глаза, онъ подставляетъ лицо, лобъ и волосы холоднымъ каплямъ и жмурится,
вглядываясь вдаль. Лучшее умыванiе — Божья роса.
Въ мутныхъ проблескахъ свѣта его взоръ
упирается въ высокую стѣну изъ тонкихъ плитокъ бетона сосѣдняго
дома, видитъ блеклыя черныя георгины и голыя сирени въ палисадникѣ,
простую желѣзную рѣшетку, калитку и чуть бѣлѣющее пятно
жестяного ящика для писемъ.
Онъ тяжело вздыхаетъ.
«А дома то что?» — съ тоскою думаетъ онъ. Съ
отвращенiемъ вдыхаетъ утреннiй воздухъ и, несмотря на свѣжесть, широкими
ноздрями большого носа ощущаетъ запахъ керосиновой и бензинной гари. Онъ
слышитъ греготанiе большого города, мiровой столицы, Вавилона ужаснаго.
Сколько разъ, вотъ такъ же по утрамъ онъ
стоялъ на маленькомъ крылечкѣ бѣлой, мазаной хаты на хуторѣ
Поповскомъ. И такъ же осенью была непогода и съ ночи сѣялъ маленькiй
дождь. Но тамъ утромъ!… Боже!… Какая красота была тамъ ранними зорями, даже и
въ хмурные осеннiе дни! Хата стояла на краю хутора. За низкимъ тыномъ,обвитымъ
косматымъ терновникомъ чернѣла степь. И надъ нею — и какъ это всегда было
красиво и полно Божьяго величiя — подъ черными осенними тучами золотой
разсвѣтъ пылалъ. Въ тѣ часы подъ такимъ же… да никогда не подъ
такимъ, а подъ свѣжимъ душистымъ, съ неба спадающимъ дождикомъ сами собою
Давидовы псалмы лѣзли на память и удивительныя молитвы слагались въ
головѣ.
«Господи, отрада моя, прибѣжище мое,
красота мiра Твоего передо мною и къ Тебѣ простираю руки мои».
А какой густой терпкiй духъ полыни и этого
особаго степного, земляного воздуха шелъ отъ широкой дали! Вдругъ перебьетъ его
соломенною гарью — у сосѣда, знать, печь растапливать стали, — отнесетъ
дымокъ въ сторону, и опять запахъ земли, безпредѣльной степи и стараго
жнивья. Отъ большой скирды хлѣбомъ пахнетъ. Навозомъ отъ сарайчика.
Овцами изъ недалекой, камнями обложенной кошары… И народятся звуки. Запоютъ
третьи пѣтухи, залаетъ собака у Байдалаковыхъ, и ей отвѣтятъ другiя
по всему хутору. И потомъ вдругъ на минуту все смолкнетъ. Станетъ тогда слышно,
какъ вздыхаютъ лошади, со звономъ льется молоко въ ведерко. Значитъ, тетка
Марья съ Аниськой пришли доить коровъ.
— Да… Хорошо!… Ахъ хорошо!…
Нифонтъ Ивановичъ замѣчаетъ, что
пальтишко его намокло и съ сѣдыхъ прядей холодныя капли бѣгутъ по
бритымъ щекамъ и падаютъ на сѣдые усы.
Пора за работу.
На маленькой газовой плиткѣ, въ
жестяномъ чайникѣ ключомъ кипитъ вода. Чернѣетъ рядомъ въ
кострюлькѣ, плавясь, вонючiй сапожный варъ.
— Фирсъ, — кричитъ старикъ за перегородку.
Оттуда слышенъ шопотъ, смѣшокъ, будто поцѣлуи, шлепокъ по
спинѣ, и появляется Фирсъ, немытый, лохматый, по модѣ остриженный —
копна волосъ на темени, а надъ ушами такъ гладко острижено, что сквозитъ желтая
кожа. Лицо кругомъ бритое — на казака совсѣмъ не похожiй. На бѣлую
съ голубыми полосками рубашку, безъ воротника и безъ галстуха, накинутъ
потрепанный пиджачишко, штаны въ полоску спускаются едва до щиколотокъ, а на
большихъ ногахъ обуты толстоносые американскiе рыжiе ботинки.
— Здравствуйте, дѣдушка, Нифонтъ
Ивановичъ, — развязно говоритъ Фирсъ.
— Ты, братъ, раньше морду да лапы помой, да
Богу помолись, а тады уже здоровкайся.
Фирсъ идетъ къ умывальнику съ проведенной
водой въ углу комнаты и плещется тамъ. Потомъ у зеркала расчесываетъ жесткiе,
перьями торчащiе волосы и подходитъ къ дѣду, протягивая руку съ широкою
ладонью.
— Бонжуръ гран-пэръ, — говоритъ онъ, громко фыркая.
Ему нравится его шутка.
— Обормотъ… Право обормотъ, — ворчитъ
дѣдъ,
— А ты что же Богу то молился?
— Какъ я могу молиться, Нифонтъ Ивановичъ,
коли ежели я сомнѣваюсь? Кругомъ, можно сказать, такая культура…
Автомобили, метрополитэнъ, Тур-д-Эйфель, Трокадеро… — Тутъ молитва мнѣ
кажется жестокой сарказмой.
— Обормотъ… И въ кого ты такой дурной уродился?..
— Ну, что вы, Нифонтъ Ивановичъ, одно слово затвердили…
Тутъ такое образованiе… Права человѣка… Рентабельность…
— Ты… Образованный… — сердито кричитъ
дѣдъ.
— Ты какъ дратву то держишь. Ты мнѣ
эдакъ только товаръ портишь… Образованный… Тебѣ сколько годовъ?
— Двадцать третiй пошелъ.
— Это тебѣ уже въ первой очереди служить…
Я въ твои годы какъ джигитовалъ… Ты на лошадь сѣсть не сможешь!…
Образованный… Съ какой стороны къ ей подойти такъ и то не знаешь.
— Съ правой… Нѣтъ… съ лѣвой…
Конечно, съ лѣвой.
— Съ лѣвой… Дурной… Ты къ ей подходи
такъ, чтобы она тебя издаля восчувствовала. Уваженiе тебѣ оказала. Ты къ
ей съ любовью… Огладь!… Осмотри!… Чтобы большой палецъ подъ подпругу
пролѣзалъ… За луку потрогай… Поводъ разбери… А тады уже садись по прiему,
какъ учили… Вотъ это тебѣ красота будетъ.
— Что жъ, Нифонтъ Иванычъ, старыя то
пѣсни пѣть. Нынче, какая такая лошадь?… Ее теперь можетъ въ
зологическомъ саду только и сыщешь. Теперь — машина. Еропланы по небу, таньки
по землѣ. Я видалъ войну то въ синема. Совсѣмъ даже не такъ, какъ
вы разсказываете… Люди въ землѣ закопались… Лошади нигдѣ и не
видать… Людей на камiонахъ везутъ… Соскочутъ и заразъ въ землю ушли… Тамъ
бетонъ… Газы… Вотъ она война то такъ обернулась… Да и теперь, какая такая
война, когда Лига Нацiй и образовательный милитаризмъ.
— Обормотъ…
Старикъ наклоняется подлѣ низко
опущенной электрической лампочки и стучитъ молоткомъ по кожѣ, натянутой
на деревянную колодку.
Такъ работаетъ онъ, молча, хмуро, сердито
сверкая сѣрыми глазами, пока не услышитъ голосъ полковника:
— Нифонтъ Иванычъ, откройте собакѣ
дверь.
XI.
День проходитъ въ работѣ. Нифонтъ
Ивановичъ и Фирсъ тачаютъ сапоги, подбиваютъ подметки, наставляютъ каблуки,
ставятъ заплатки — работа черная, дешевая, неблагодарная. Весь уголъ подвала
заваленъ старыми башмаками съ мѣловыми отмѣтками на рваныхъ
подошвахъ, и нудно пахнетъ отъ нихъ старою кожею и людскою, нечистою
прѣлью. Рядомъ Зося готовитъ обѣдъ и тутъ же стираетъ бѣлье.
Обѣдаютъ молча. Дѣловито суютъ
ложки въ общiй чугунокъ, тарелки обтираютъ корками бѣлаго хлѣба.
Послѣ обѣда Нифонтъ Ивановичъ
дремлетъ часокъ на своей постели. Рядомъ за перегородкой шушукаются, охаютъ и
вздыхаютъ Фирсъ съ Зосей. Нифонтъ Ивановичъ молчитъ. «Что жъ дѣло
молодое», — думаетъ онъ. — «Нехорошо, что съ полькой… И опять же…
Невѣнчанные»…
Съ двухъ часовъ снова стучатъ молотки, снуетъ
игла съ дратвой, шило ковыряетъ кожу. Пахнетъ казачьими щами и варенымъ мясомъ,
но постепенно этотъ запахъ съѣдается запахомъ сапожнаго лака.
Малиново-коричневыя, блестящiя подошвы новыхъ подметокъ чинно выстраиваются на
окнѣ.
— Тутъ этого… Деревянныхъ гвоздей никакъ не
знаютъ… Тутъ все машиной… А какой съ ей прокъ… Съ машины то… Двѣ
недѣли поносилъ и дырка, — ворчитъ старый дѣдъ. — А онъ ожерелокъ
да халстукъ нацѣпитъ и ховоритъ: — культура!…
Онъ ждетъ шести часовъ. Тогда можно
пошабашить.
Покончивъ съ работой Нифонтъ Ивановичъ поднимается
къ полковницкой квартирѣ и, хотя — вотъ она кнопка электрическаго звонка,
— онъ осторожно стучитъ.
— Вы, Нифонтъ Иванычъ? — отзывается изъ своей
комнаты Неонила Львовна.
— Я, ваше превосходительство.
Нифонтъ Ивановичъ отлично знаетъ, что Неонила
Львовна совсѣмъ не генеральша, и мужъ ея былъ по гражданской части, но
знаетъ и то, что «масломъ каши не испортишь».
— Дозвольте газетку.
Получивъ газету, Нифонтъ Ивановичъ спускается
въ палисадникъ и садится на «вольномъ воздухѣ» читать.
Читаетъ онъ медленно. Читаетъ онъ всю первую и
послѣднюю страницы, пропуская фельетоны. «Тамъ зря пишутъ… Брехня одна»…
Онъ поджидаетъ полковника, Нордековъ возвращается въ половину седьмого, и какъ
бы ни былъ усталымъ, — всегда присядетъ поболтать со старымъ казакомъ. Въ немъ
онъ чувствуетъ человѣка единомышленнаго, одинаково сильно страдающаго за
Россiю и не могущаго примириться съ жизнью заграницей.
Едва полковникъ показывается у желѣзной
рѣшетки, Нифонтъ Ивановичъ поднимается со скамейки, вытягивается и, если
былъ въ шапкѣ, снимаетъ шапку. Нифонтъ Ивановичъ не любитъ носить шляпы.
— Уже очень неподобные тутъ уборы, — объяснялъ
онъ свое нерасположенiе къ заграничнымъ шляпамъ. — Котелки — на нѣмца
похоже… Фулиганскiя шляпы — ну чисто — «товарищи»… Мягкую шляпу взять — не то
тальянецъ, не то ахтеръ.
— Здравствуйте, Нифонтъ Ивановичъ, —
защелкивая калитку, говоритъ полковникъ.
— Здравiя желаю, ваше высокоблагородiе.
— Ну, какъ вы?
— Какъ вы, ваше высокоблагородiе?… Не слыхали
ли чего утѣшительнаго? Можетъ изъ Россiи что слышно?… На Тихомъ Дону не
подымаются ли наши?… Что Брiанъ насчетъ перемѣны политики?… Пора бы,
кажется, суть дѣла понять… Уже кругомъ идетъ… Хуже некуда!… Можетъ
дѣдъ Хинденбургхъ чего не надумалъ?… Али по прежнему съ большевиками?… съ
христопродавцами?…
Ничего утѣшительнаго не было слышно. Дни
шли за днями, вытягиваясь въ длинную очередь, становились годами, и нечего было
сказать полковнику Нордекову старому казаку Агафошкину такого, отъ чего дружно
надеждою забились бы ихъ сердца.
— Что жъ, ваше высокоблагородiе, — съ тоскою
въ голосѣ говорилъ Нифонтъ Ивановичъ, — пора, наконецъ, и въ походъ.
Нюжли же не увидимъ родной земли? Тихому Дону не поклонимся низко?…
Тогда говорилъ полковникъ все то, что слышалъ
на ихъ собранiяхъ, что прочиталъ въ газетахъ, во что и самъ не вѣрилъ, но
чему такъ хотѣлъ вѣрить.
— Да… да… конечно… Положенiе кругомъ и точно
напряженно тяжелое. Въ Англiи Макдональдъ и Гендерсонъ — рабочее правительство.
Они не понимаютъ того, что творится въ Россiи… Они думаютъ, что тамъ и правда
рабоче крестьянская власть.
— А не куплены они, бываетъ, ваше
высокоблагородiе? — тихо вставляетъ Нифонтъ Ивановичъ.
— Нѣтъ…не думаю… Не можетъ того быть…
Хотя?… Отчего?… Теперь все можетъ быть… Германiя задавлена Версальскимъ миромъ
и ищетъ спасенiя въ большевикахъ… Все это точно вѣрно… Но отчаяваться
нечего. Просвѣтъ есть… Вы посмотрите, повсюду идутъ протесты противъ
гоненiй на вѣру, собираются многолюдные митинги… Работаетъ Лига Обера…
— Имъ, ваше высокоблагородiе, протесты что!…
Имъ надо, чтобы по шапкѣ наклали по первое число. Нагайками ихъ какъ
слѣдуетъ надо бы…
— Все таки… И въ самой Россiи… Пятилѣтка
имъ не удается… А когда послѣ этого страшнаго напряженiя будетъ все тотъ
же голодъ, та же нищета… Народъ непремѣнно возстанетъ…
Нифонтъ Ивановичъ тяжко вздыхаетъ.
— Нѣтъ, ваше высокоблагородiе, трудно
ему возстать. У нихъ сила…
— Отчаяваться, Нифонтъ Ивановичъ не
приходится. Отчаянiе это уже послѣднее дѣло. Надо вѣрить въ
милосердiе Божiе и молиться.
— Это точно… А тольки…
Нифонтъ Ивановичъ растерянно мнетъ въ рукахъ
газету.
— Вѣра, ваше высокоблагородiе, отходитъ…
Мой Фирсъ отъ Бога отошелъ. Мамашу вашу, ея превосходительство, взять… Я
осуждать, конечно, не смѣю… Лба никогда не перекреститъ… А образованныя
очень… Да и какъ быть вѣрѣ, когда въ самой церкви шатанiе идетъ.
Нифонтъ Ивановичъ смущенно какъ то показываетъ
мѣсто на послѣдней страницѣ, и полковникъ читаетъ: — «церковь…
Въ воскресенье… митрополичьимъ хоромъ… Подъ управленiемъ.. будетъ исполнена
литургiя А. Т. Гречанинова…»
Полковникъ поднимаетъ на Нифонта Ивановича глаза.
— Ну?
— Вы изволили прочесть?… «Начало въ десять
часовъ тридцать минутъ утра»… Это что же такое?… Какъ о кiятрѣ объявляютъ…
Нѣтъ тебѣ, чтобы трезвономъ въ колоколъ ударить… По православному…
Нѣтъ, какъ о смотрѣ какомъ пишутъ: — начало!… Вы понимаете: —
«начало»!!… Опять же, ваше высокоблагородiе… Литургiя… Какая бываетъ литургiя?…
Какъ положено… Iоанна Златоуста… Василiя Великаго, когда какая указана. Это
какая же такая литургiя Гречанинова?… Соблазнъ человѣкамъ… Тамъ жертва
великая, безкровная у алтаря приносится… Тамъ предстоять надо со страхомъ и
трепетомъ… Тамъ Ликъ Божественный видѣть можно… Тамъ херувимы и серафимы…
А тутъ, какъ въ Парамунтѣ какомъ господа въ гусарскихъ мундирахъ
зазываютъ. «Впервые будетъ исполнено»… «Начало въ десять съ половиною часовъ»…
Это же, ваше высокоблагородiе, только господа такое могли придумать. которые,
какъ ваша мамаша невѣрующiе…
— Это не такъ, Нифонтъ Ивановичъ, — начинаетъ
объяснять полковникъ, и не находитъ словъ объяснить Нифонту Ивановичу,
зачѣмъ это такъ дѣлается.
— Это, ваше высокоблагородiе, Парижъ, — говоритъ старый Агафошкинъ и
въ это слово вкладываетъ весь ужасъ своего отчаянiя.
Онъ смотритъ на ворота переулочка.
— Ну, ваше высокоблагородiе, пошабашимъ до
завтрева. Барыня ваша идутъ… возвращаются.
И какъ два школьника, боящiеся попасться въ
запрещенномъ куренiи, они быстро шмыгаютъ изъ садика. Нифонтъ Ивановичъ
сбѣгаетъ въ подвалъ, полковникъ торопливо поднимается во второй этажъ и
нажимаетъ пуговку электрическаго звонка. Его сердце быстро бьется. Онъ
торопится войти такъ, чтобы Ольга Сергѣевна не замѣтила его на
лѣстницѣ.
X.
Такъ и жили они, обитатели виллы «Les
Coccinelles» въ № 24 no rue de la
Gare маленькаго припарижскаго мѣстечка. Раньше, когда
они были въ Россiи, до войны, ихъ жизни сливались въ одну общую, какъ сливались
жизни полковника, Ольги Сергѣевны и Шуры. Тогда была у нихъ одна общая
вѣра въ Бога — не Карловацкая и не Евлогiанская, не восточно-католическая
и не краснаго епископа, присланнаго изъ Совдепiи. Тогда было все равно, куда
ходить молиться — въ аристократическую церковь при министерствѣ
Удѣловъ, или молиться со «всѣми» во Владимiрскомъ соборѣ, или
другой «приходской» церкви. Вѣра была одна — православная. И служители ея
не вызывали никакихъ сомнѣнiй.
Тогда былъ Царь. Государь Императоръ, о комъ благолѣпно,
величественно и благоговѣйно возглашали моленiя въ церквахъ всей Россiи.
Когда незадолго до войны прiѣзжалъ Государь въ Ялту — Ольга Сергѣевна
видѣла путь къ молу чуть не по ступицу колесъ усыпанный цвѣтами:—розы,
глицинiи, нарциссы, магнолiи, — все дождемъ сыпалось подъ ноги лошадей
вѣнценоснаго Монарха и его супруги — Матушки Царицы… Какое возбужденiе,
какой восторгъ были на Ялтинскомъ молу, гдѣ Императрицей былъ устроенъ
благотворительный базаръ и гдѣ стояла ошвартованная у мола Императорская
яхта.
Тогда было — Отечество. He Украина, не Польша,
не Казакстанъ, не Армянская республика, но великая Россiйская Имперiя —
владычица трехъ океановъ. Отъ Калиша до Владивостока, отъ Торнео до Батума —
все была одна Россiя, съ однимъ языкомъ, съ однимъ царемъ, съ разными религiями,
но съ одною святою вѣрою.
Если и тогда не всѣ жизни сливались въ
одну линiю, стремящуюся къ одной цѣли — карьерной ли, обогащенiю ли, къ
славѣ ли, къ благополучiю, къ жертвенному ли исполненiю долга, то шли
онѣ параллельно, какъ шли тогда жизни полковника и Нифонта Ивановича.
Другъ друга тогда они не знали, но въ своемъ служенiи Родинѣ и царю были
совершенно единомышленны.
Теперь, когда, какъ то вдругъ и совершенно
неожиданно — не на то они разсчитывали, когда одни сознательно, другiе
безсознательио шли заграницу — вышло такъ, что не стало у нихъ Родины, стали
они «sans Patгiе», «Heimatlos» «бѣженцы», «эмигранты», вдругъ и жизни ихъ
разошлись и, исходя изъ одной точки — виллы «Les Coccinelles» — стремительно,
пучкомъ уходили въ разныя стороны, гдѣ были разныя понятiя, разные
идеалы, гдѣ не было дружбы и любви, но гдѣ были скрытая вражда и
непониманiе другъ друга.
Все дальше отходила Ольга Сергѣевна отъ
полковника. И жутко было слушать Георгiю Димитрiевичу, какъ иногда, узнавъ, что
онъ сдѣлалъ взносъ въ полковое объединенiе — она фыркала и со злобою
ворчала:
— Игра въ солдатики… Все бросить этого не
можете?… Музей полка… Могила дорогого покойника… Кладбище старыхъ мечтанiй…
Разбитое корыто… He зачѣмъ было мѣнять Государя на временное
правительство… Домѣнялись!… Проворонили все!!…
Полковникъ тогда до верху застегивалъ свое
крашеное англiйское пальто, поднималъ воротникъ и уходилъ изъ дома. Онъ шелъ на
берегъ Сены и долго ходилъ взадъ и впередъ, ничего не видя, никого не
замѣчая. Все то, что такъ жестоко и больно осуждала Ольга Сергѣевна
было для полковника — вѣрой. Вѣрой въ побѣду, въ возвратъ
того стараго, лучше чего не было въ его жизни. Потерять эту вѣру… И что
останется?… Вилла «Les Coccinelles»?…
Когда старуха Неонила Львовна вдругъ пускалась
— обыкновенно послѣ вечерняго чая — въ свою философiю и, куря папиросу за
папиросой, разсказывала о стратосферѣ, объ электронахъ, энергiя которыхъ
такъ велика, что всякаго бога затмитъ, о томъ, что на высотѣ пяти
километровъ воздухъ такъ чистъ и заряженъ электричествомъ, что тамъ никакiя
болѣзни невозможны, полковникъ сосредоточенно и мрачно курилъ.
— Какъ же, — говорила Неонила Львовна, пыхая
папиросой и съ ненавистью глядя въ лицо полковника. — Ученый одинъ… Французъ,
конечно… Устроилъ свою лабораторiю на самомъ на Мон-Бланѣ.. И что то изъ
него… изъ его тѣла стало выдѣляться. Онъ отжалъ и собралъ
цѣлую коробку… Произвелъ анализъ… Вся мочевая кислота, что была въ немъ,
вышла безъ всякихъ тамъ уродоналовъ, Виши и прочаго… Онъ совсѣмъ помолодѣлъ…
Живой такой сталъ… Здоровый… Будетъ время — города будутъ поднимать на пять
километровъ и даже и выше, въ стратосферу. И тамъ будутъ жить вѣчно… Безъ
всякаго Бога… Вотъ оно что такое современная наука!
Она упрямо вскидывала голову, и сѣдыя космы
встряхивались на ея затылкѣ. Ольга Сергѣевна съ недоумѣнiемъ,
но безъ всякой любви смотрѣла на «мамочку». Полковникъ глядѣлъ съ
отвращенiемъ. Мишель Строговъ слушалъ внимательно, сурово глядя въ ея лицо узко
поставленными, напряженными глазами.
— Этого, бабушка, нельзя, — вдругъ строго и
внушительно перебилъ онъ старуху. — Никакъ этого нельзя, бабушка. Теперь вотъ
трудящемуся человѣку послѣ шестидесяти лѣтъ работы не даютъ…
И правильно… Не загромождай мѣста… Давай дорогу молодымъ силамъ… А въ
будущемъ? Я такъ полагаю, недалекомъ даже будущемъ — какъ стукнуло шестьдесятъ
— ну и не дыши… Очищай землю отъ своего ненужнаго присутствiя… Дали нюхнуть
тамъ чего — и готово… Вотъ это наука!… Это культура!… Къ тому идемъ, бабушка.
Нѣсколько мгновенiй старуха со страхомъ,
Мишель Строговъ съ холоднымъ любопытствомъ смотрѣли въ глаза другъ другу.
Потомъ всѣ, точно сговорившись, не прощаясь, не пожелавъ другъ другу
«спокойной ночи» — какая сентиментальность — расходились по своимъ комнатамъ.
Ну развѣ не шли они по линiямъ,
уходящимъ все дальше и дальше другъ отъ друга… Развѣ было у нихъ что
нибудь общее, что связывало бы ихъ, кромѣ заработной платы и возможности
платить за «Les Coccinelles» и какъ то питаться?…
Только съ Нифонтомъ Ивановичемъ и было у
полковника нѣчто общее. Оба шли, какъ будто, по близкимъ параллельнымъ
линiямъ, тосковали одинаково по прошлому и ждали и вѣрили.
Да… крѣпко, несокрушимо, не колеблясь,
вѣрили…
И все-таки все больше было тоски и скорби въ
голосѣ стараго казака, когда онъ спрашивалъ — и теперь все болѣе и
болѣе несмѣло — «что утѣшительнаго привезли, ваше
высокоблагородiе, изъ Парижа?… He надумали ли чего въ Палатѣ Депутатовъ
въ помощь Россiи?…»
Но ничего уже утѣшительнаго не могъ
разсказать дѣду Агафошкину старѣющiй полковникъ Нордековъ.
Такъ и жили они всѣ вмѣстѣ,
въ одномъ маленькомъ, точно карточномъ домикѣ, гдѣ будилъ ихъ
всѣхъ по утрамъ будильникъ Мишеля Строгова. Казалось въ этой
борьбѣ, не за жизнь уже, но просто за прозябанiе, они забыли, что есть на
землѣ любовь, слава, честолюбiе, что, есть гдѣ то Родина, за
которую надо непрерывно бороться…
XI.
Въ яркiй ноябрьскiй полдень, когда надъ
Парижемъ вдругъ точно разостлали голубое Ниццское небо, и воздухъ сталъ прозраченъ,
а Сена голубѣла, зеленѣла и текла полноводная отъ пролившихъ
дождей, заливая колѣни каменнымъ статуямъ зуавовъ на Парижскомъ мосту,
совсѣмъ неожиданно, прямо съ вокзала на такси, на виллу «Les Coccinelles»
прiѣхала изъ Союза Совѣтскихъ соцiалистическихъ республикъ, изъ
Россiи, изъ Петербурга племянница Ольги Сергѣевны — Леночка.
Впрочемъ ея появленiе не должно было быть такъ
уже неожиданнымъ. Ее ждали, но какъ то не вѣрили, что она прiѣдетъ.
Ибо какъ можно оттуда прiѣхать?…
У «мамочки», Неонилы Львовны Олтабасовой, былъ
младшiй братъ, Алексѣй Львовичъ, крупный чиновникъ министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, на видномъ посту. Онъ умеръ въ тюрьмѣ еще при
Временномъ Правительствѣ. У него была дочь Софья Алексѣевна,
вышедшая замужъ за доктора Зобонецкаго. Докторъ Зобонецкiй въ 1920 году умеръ
отъ голода. Вдова осталась съ шестилѣткей дочерью Леночкой и проживала въ
Троцкѣ, подъ Петербургомъ. Вдова Олтабасова, Александра Петровна, бабушка
Леночки, умудрялась регулярно переписываться съ Неонилой Львовной, и по этой перепискѣ
на виллѣ «Les Coccinelles» кое-что знали о жизни въ совѣтской
республикѣ.
Было всегда почему то жутко получать письма,
большею частью открытыя, гдѣ коротко, Эзоповскимъ языкомъ сообщалось о той страшной жизни. Почтовая карточка
переходила изъ рукъ въ руки. Внимательно, какъ что то чуждое и, пожалуй,
враждебное разсматривали коричневую, напечатанную въ углу марку съ
изображенiемъ космато-бородатаго мужика съ густыми волосами копной и четко
оттиснутый почтовый штемпель съ такимъ страннымъ и дикимъ словомъ Русскими буквами:
— «Ленинград», «4 эксп.»… Въ лѣвомъ углу было изображенiе земного шара,
перечеркнутаго бѣлымъ оттискомъ серпа и молота въ вѣнкѣ изъ
ржи, обвитомъ лентою съ такими мелкими, что только одни зоркiе глаза Мишеля
Строгова могли прочитать — да и прочитать ли? — вѣрнѣе догадаться —
надписями: — «пролетарии всех стран соединяйтесь»…
Карточка обычно была написана или карандашомъ,
или какими то блѣдными лиловыми чернилами, вѣроятно разбавленными
водою, такими, какихъ заграница не знаетъ. Съ лицевой стороны и, надо полагать,
на зло, — въ этомъ сказывался характеръ Олтабасовой, тамъ, гдѣ стояло: —
«Куда» — «наименовакие места, где находится почта, и губернии или округа, а для
станций наименование железной дороги» — было написано твердымъ размашистымъ
почеркомъ: — «Madame Neonile Oltabassoff», a пониже шелъ адресъ, по французски,
и тамъ, гдѣ значилось: — «Кому. Подробное наименование адресата» —
стояло: — «Франция. Париж».
Въ письмѣ, всегда по старой
орѳографiи, писали о чемъ то загадочномъ, за чѣмъ скрывалось
ужасное.
…«Дядя Петя, совсѣмъ того не желая,
уѣхалъ очень далеко. Александръ Сергѣевичъ, о которомъ я писала,
что онъ получилъ казенное мѣсто совсѣмъ къ намъ никогда не
воротится. А мы живемъ хорошо и ни въ чемъ, кромѣ развѣ хорошаго
воздуха, не нуждаемся. Въ смыслѣ кормежки было трудно и дорого. Брать у
частника многое не могу, но все таки кое что перепадало. Ты мнѣ не пиши.
Нечего писать: — все про тебя знаемъ и жалѣемъ. Погода испортилась, опять
пошли дожди»…
Собравшись вокругъ лампы въ комнатѣ
Неонилы Львовны письмо расшифровали.
— Дядю Петю очевидно сослали въ Соловки, — печально
говорила Ольга Сергѣевна.
— Ну можетъ быть еще и въ Нарымъ, — вставилъ хмуро
полковникъ.
— Жаль… А надо было ожидать. He такой былъ
человѣкъ, чтобы гнуться.
— А про дожди — это, мамочка, про
разстрѣлы.
— Да, — вздыхала Неонила Львовна, — опять
терроръ. — И, забывъ про свои «винтики», съ глубокою печалью въ голосѣ
добавляла: — ну, никто, какъ Богъ.
Въ эти минуты чтенiя короткой открытки
«оттуда», точно вдругъ сходились расходящiяся линiи ихъ жизней. Дуновенiе
Родины сближало ихъ, и разошедшаяся семья снова ненадолго собиралась.
И на другой день, когда Нордековъ возвращался
со службы, старый Нифонтъ Ивановичъ поджидалъ его у самой калитки и, вкрадчиво
и любовно заглядывая полковнику въ глаза, спрашивалъ:
— Слыхать, ваше высокоблагородiе, ихъ
превосходительство письмо изъ Россiи получили… Ну что тамъ пишутъ?… Скоро ли
окончанiе всей этой муки?…
И странно было думать, что полученiе открытки
изъ Петербурга въ Парижѣ, отъ вдовы тестя — событiе, и что нельзя было
написать туда все, что думаешь, что это грозило для получателя арестомъ,
тюрьмою, можетъ быть, — смертною казнью. И уже никакъ нельзя было поѣхать
туда, навѣстить вдову тестя, племянницу и поглядѣть на внучку.
Но еще страннѣе было то, что такъ
просто, какъ къ чему то неизбѣжному и неотвратимому относились къ тому,
что дядю Петю, ученаго профессора, ушедшаго въ свои гербарiи, о которомъ нельзя
было даже представить, что онъ сдѣлаетъ что нибудь противозаконное, такъ
— «здорово живешь» — сослали въ ссылку, или что Александра Сергѣевича —
ихъ большого друга, товарища Георгiя Димитрiевича, ни за что ни про что
разстрѣляли. Объ этомъ говорили съ какимъ то эпическимъ спокойствiемъ,
какъ о нормальной смерти ста двадцати лѣтняго старика, не возмущались, не
плакали, не служили панихидъ.
Иногда Александра Петровна писала и о
Леночкѣ.
…«Леночка поступила въ школу второй ступени…»
«…Леночка кончила школу второй ступени»…
Невозможно было представить себѣ Леночку
въ совѣтской школѣ. Чему тамъ учили? Какъ воспитывали?… Ольга
Сергѣевна возмущалась, что тамъ школа была безъ Бога, а «мамочка»
скорбѣла, что Леночка навѣрно не говоритъ по французски.
— Развѣ что Александра Петровна ее
научитъ.
Этимъ лѣтомъ пришелъ конвертъ,
надписанный рукою старухи Олтабасовой. Въ немъ не было письма, но лежала
вырѣзка изъ газеты. Съ одной стороны были отчеты о театрахъ… «Въ
Филармонии»… «Подсчитали — прослезились», гдѣ разсказывалось о
крахѣ какого то совершенно непонятнаго «театрального отдела кубуч’а».
На другой сторонѣ была небольшая
замѣтка: — «В суде. Жилкошмар», подписанная Н. С—скимъ. Эту замѣтку
прочитали. Была полна она такого ужаса, что даже не сразу могли понять весь
смыслъ ея содержанiя.
Авторъ коротко и сухо, — стоитъ ли много
писать о такомъ обыкновенномъ въ совѣтскомъ быту происшествiи —
повѣствовалъ:
…«Сухое обвинительное заключенiе говоритъ о
дикомъ кошмарѣ, и о томъ, какъ изъ за нѣсколькихъ метровъ
жилплощади не дали жить человѣку. Убили его не просто, а предварительно
затравивъ.
«26-го сентября прошлаго года, послѣ
прохода поѣзда изъ Ленинграда на Лугу, на 43 километрѣ Варшавской
дороги, былъ найденъ перерѣзанный колесами трупъ неизвѣстной
женщины. Голова была пробита въ нѣсколькихъ мѣстахъ, тѣло
исковеркано, но крови вытекло очень мало. Это вынудило врача отказаться отъ дачи
заключенiя о причинѣ смерти гражданки Софiи Зобонецкой.
«Зобонецкая съ дочерью Еленой снимала
двѣ комнаты въ домѣ, арендованномъ Андреемъ Аггусомъ по улицѣ
Юнаго Ленинца въ Троцкѣ. Семья Аггуса была очень не мала, кромѣ
того, онъ поселилъ у себя семью Древицкихъ. Тамъ же жила гражданка Барашкина.
«Аггусъ усиленно таскалъ Зобонецкую по судамъ,
обвиняя ее то въ умышленной порчѣ комнаты, то «въ нагломъ поведенiи и
ругани». Помогали Аггусу въ этихъ судебныхъ похожденiяхъ мужъ его сестры, членъ
Троцкаго горсовѣта и жиличка Барашкина.
«Тѣмъ не менѣе выселить Зобонецкую
имъ не удавалось. Для того, чтобы «допечь» Зобонецкую, Аггусъ не гнушался
подсылать къ ней пьяныхъ гробовщиковъ, якобы за срочнымъ заказомъ.
«Наконецъ, Зобонецкая была найдена мертвой на
рельсахъ.
«Аггусъ за бутылкою вина разсказалъ всю
исторiю расправы съ Зобонецкой. Онъ оглушилъ ее ударомъ гири по головѣ на
площадкѣ вагона, въ которомъ ѣхалъ вмѣстѣ съ Зобонецкой
въ Ленинградъ по какому то вымышленному, срочному дѣлу. Доканавъ старуху,
онъ сбросилъ ее на полотно, въ заранѣе условленномъ мѣстѣ,
гдѣ дожидались жена его и жиличка Барашкина, которой за содѣйствiе
было обѣщано перевести ее въ лучшую комнату. Они и подложили трупъ подъ
поѣздъ, чтобы замести слѣды.
«Барашкина черезъ два мѣсяца не вынесла
угрызенiй совѣсти и отравилась.
«He довольствуясь убiйствомъ, Аггусъ укралъ
всѣ цѣнныя вещи Зобонецкой, хранившiяся на чердакѣ.
«Дѣло объ убiйствѣ изъ за
жилплощади на дняхъ будетъ слушаться въ Окружномъ судѣ…»
Когда прочли это газетное извѣстiе, какъ
всегда всякую вѣсточку «оттуда», всею семьею, за вечернимъ чаемъ, Ольга
Сергѣевна почувствовала, что на нее это кошмарное убiйство не произвело
впечатлѣнiя. Оно не входило, не умѣщалось въ рамки ихъ Парижской
жизни. Потомъ, изъ короткаго обмѣна мнѣнiй съ мужемъ и «мамочкой»,
— она убѣдилась въ томъ, что ихъ поразило не самое убiйство — къ убiйству
они отнеслись холодно: — иначе и быть не могло въ совѣтскомъ раю — но ихъ
удивило, что у Зобонецкой могли быть цѣнныя вещи. Значитъ, не все
отобрали. А еще болѣе поразило ихъ, что убiйца былъ арестованъ, что
пособница Барашкина изъ за угрызенiй совѣсти отравилась, а самое
дѣло будетъ слушаться въ окружномъ судѣ.
Имъ все въ совѣтской республикѣ
казалось такимъ кошмарнымъ сномъ, такою чудовищною неразберихою, что убiйство
близкаго человѣка ихъ не поразило — оно входило въ совѣтскiй бытъ,
какъ входили въ него безсмысленные аресты и казни невинныхъ людей. Ихъ
поразило, что тамъ все таки была какая то жизнь и вмѣстѣ съ нею
какая то правда, въ которую входили и угрызенiя совѣсти и арестъ убiйцъ и
преданiе ихъ суду.
Повидимому и на самаго близкаго человѣка
къ Зобонецкой, на ея мать, самый фактъ убiйства тоже не произвелъ большого
впечатлѣнiя. Въ очередномъ письмѣ открыткѣ ничего по этому
поводу не писалось. Старая Олтабасова помянула только про внучку.
…«Леночка поселилась у меня»…
Потомъ пришло извѣстiе, что такъ какъ
Леночка выросла, она озабочена ея будущимъ: — «хлопочу послать Леночку къ вамъ
и это мнѣ повидимому удастся»…
Потомъ очень долго не было писемъ, и, такъ
какъ ни денегъ, ни визъ ни откуда не просили, то какъ то и позабыли о томъ, что
Леночку посылаютъ въ Парижъ. Да и казалось это такимъ невозможнымъ… «Оттудa и въ Парижъ»!…
И вдругъ Леночка явилась сама, что называется
— «собственною персоной» и совсѣмъ не робко, но увѣренно позвонила
въ дребезжащiй звонокъ въ переулочкѣ у дома, имѣвшаго номеръ 24-ый.
XII.
Леночка ощутила странную легкость, когда
отдала шофферу такси послѣднiе восемнадцать франковъ, показанныя
счетчикомъ, прибавила два франка на чай, и у ней осталась какая то мелочь — дырявые
сантимы и темно мѣдные су.
Она была въ блѣдно-голубой, блеклаго,
вялаго цвѣта высыхающихъ васильковъ шляпкѣ колпачкѣ, въ
короткомъ, выше колѣнъ, не модномъ уже платьѣ и кофточкѣ. Все
было очень старое и заношенное. Особенно плохи были чулки желторозоваго
цвѣта и всѣ въ штопкахъ. Башмаки были стоптаны, и на пескѣ,
гдѣ стояла Леночка, переминаясь съ ноги на ногу, выдавливали маленькiй
слѣдокъ ея ножки, и въ немъ отпечатывалась глубокая дырка на подошвѣ.
Она позвонила еще разъ. Никто не открывалъ
калитки. Крошечные домики въ паутинѣ плюща, съ окнами, заставленными
ставнями, точно склеенные изъ картона казались необитаемыми. Но на
веревкѣ палисадника между ржавыхъ георгинъ сушилось бѣлье и изъ
калитки вдругъ выскочила большая темная собака и съ лаемъ бросилась къ
воротамъ.
Леночка испугалась. Но собака понюхала
воздухъ, посмотрѣла желтыми, умными глазами въ глаза дѣвушкѣ
и, толкнувъ носомъ калитку, выскочила на улицу и убѣжала.
Леночка, убѣдившись, что калитка не
замкнута, вошла въ узкiй дворикъ тупичокъ. Справа были высокiя слѣпыя
стѣны сосѣдняго дома, слѣва палисадники и маленькiя дачки.
Леночка шла и читала надписи на бѣлыхъ эмалированныхъ дощечкахъ.
…«Les Platanes», «Villa les Tilleuiles», «Les
Eglantines»… «Les Coccinelles»…
Леночка остановилась. Да, конечно, она помнила
это имя. Ей его часто называла бабушка. Здѣсь и должна жить ея Парижская
бабушка.
Она вошла въ открытую калитку. Сухiя
вѣтки кустовъ привѣтствовали ее. Черные стволы засохшихъ георгинъ
торчали изъ клумбъ. У бетоннаго крылечка Леночка остановилась, не зная, кого
спросить. Снизу изъ подвальнаго окошка высунулась лохматая голова. Копна волосъ
на темени, бритые виски, — совсѣмъ какъ у ихъ совѣтскихъ атлетовъ
на пролетарскомъ стадiумѣ, гдѣ упражняются физ-культурники.
— Кэ дезир мадамъ?…
Какой это былъ ужасный французскiй языкъ!…
Леночка умѣла таки говорить по французски. Конечно не въ школѣ
второй ступени она научилась этому, а дома, у Ленинградской бабушки. И
произношенiе у нея было совсѣмъ Парижское, съ красивымъ раскатомъ на «р».
На вопросъ на такомъ ужасномъ французскомъ
языкѣ и отвѣчать по французски не хотѣлось. Неужели это ея
двоюродный братъ Шура Нордековъ, о комъ такъ много говорила ей ея мать? Она
смутно помнила его мальчикомъ — комсомольцемъ.
Леночка посмотрѣла на окошечко подвала.
Оно раскрылось совсѣмъ и голова «физ-культурника», покоящаяся на широкой
шеѣ, появилась въ немъ. За шеей слѣдовала рубаха безъ воротника и
безъ галстуха, облегавшая могучiя плечи.
Леночка вопросительно сказала, подчеркивая
французское произношенiе Русской фамилiи:
— Madame Oltabassoff?…
Физ-культурникъ выразительно ткнулъ пальцемъ
вверхъ и твердо по русски сказалъ:
— Звоньте во второй этажъ. Пуговка
налѣво. Мамочка дома. Знать кофiй пьеть.
Леночка поднялась и позвонила. За дверью
зашмыгали мягкiя туфли, и передъ Леночкой въ растворенной двери появилась
старуха со стриженными волосами — ни дать, ни взять — сама Крупская — Ленинская
супруга, совѣтская «вдовствующая императрица».
— Вамъ кого? — спросила старуха.
— Я… Леночка… Зобонецкая…
— Ахъ ты… Боже мой!…
Мягкiя пахнущiя кофеемъ объятiя охватили
Леночку. Такъ въ объятiяхъ она и вошла въ комнату. Тамъ было сумрачно. На простомъ
кругломъ столѣ безъ скатерти кипѣлъ на примусѣ кофейникъ. Въ
проволочномъ лоткѣ лежали маслянистыя подковки.
— Ну, садись, — отдуваясь отъ волненiя, проговорила
старуха. — Шляпу сними… Стриженая… Что жъ и правильно… Для работы лучше… А
хорошенькая… въ мать.
Леночка и точно была прелесть какая. И что то
было особенное Русское — въ ея лицѣ съ чуть широкими скулами, выдающимися
у висковъ, прозрачною смуглинкою, сквозь которую просвѣчивалъ персиковый
румянецъ, съ пушистыми бровями. Подъ ними въ темной опушкѣ очень густыхъ
и длинныхъ, по дѣтски загнутыхъ вверхъ рѣсницъ, сiяли молодостью,
золотою шампанскою игрою горѣли большiе карiе глаза. Волосы были темно
каштановые, губы маленькiя, сердечкомъ, безъ краски пунцовыя, носъ небольшой,
задорно вздернутый, по Русски открытый. Когда Леночка сняла безобразившую, не
по ней сшитую, съ чужого плеча кофту, она оказалась высокой и стройной, съ
маленькими, не слишкомъ чистыми, послѣ дороги, руками и стройными ногами
прекраснѣйшихъ линiй.
Она сѣла противъ «мамочки».
— Голодная?.. Ну, ничего… Потерпи… Пока вотъ
кофею попей… Съ круассанами… По нашему — подковки… У нихъ, у французовъ,
круассанами прозываются.
Леночка была очень голодна. Она второй день ничего
не ѣла. Денегъ хватило въ обрѣзъ. У нея послѣ долгаго пути,
ночей, проведенныхъ въ «жесткомъ» вагонѣ кружилась голова, и ей казалрсь
что полъ ходилъ подъ ногами, какъ въ поѣздѣ.
Ея маленькiй облѣзлый чемоданчикъ, такой
легкiй, что она сама его и принесла былъ поставленъ на соломенный стулъ.
Неонила Львовна кивнула на него.
— Всѣ твои вещи тутъ?
— Всѣ, бабушка.
— Какъ же ты доѣхала?…
Леночка не поняла вопроса. Она смотрѣла
на старуху и молчала.
— Какъ тебя, говорю, выпустили?… Съ какимъ
паспортомъ?…
— Съ нашимъ… Совѣтскимъ, — робко сказала
дѣвушка.
— Ты тутъ этого не болтай… Заклюютъ… Ольга
тебѣ все устроитъ. Чтобы шито, крыто. Полковникъ чтобы не пронюхалъ… Co
свѣта сживетъ. Всю чистоту его бѣлыхъ ризъ испортишь.
Неонила Львовна пожевала губами. Леночка жадно
пила кофе. Подковки исчезали за ея молодыми, бѣлыми, сверкающими изъ за
алыхъ губъ зубами. Она плохо соображала, что ей говорила старуха. Все было такъ
необыкновенно и совсѣмъ не такъ, какъ ей представлялось это въ ея думахъ
во время дороги.
— Безбожница?
Леночка искоса посмотрѣла на бабушку и
точно насторожилась.
— У насъ, бабушка, не учили… Мама когда то
говорила немного.
— Да ты не смущайся. Я и сама такая. Своимъ
умомъ до всего дошла. Ни къ чему всѣ эти поповскiя исторiи.
Надолго замолчали. «Мамочка» налила еще чашку
Леночкѣ.
— Пей, милая. Ты голодна. Я еще приварю. На
вотъ тебѣ хлѣбца пожуй… Съ масломъ.
Неонила Львовна достала съ небольшого буфета
длинную тонкую булку, приготовленную къ обѣду, сливочное масло и
поставила передъ Леночкой.
— У васъ всего изобилiе, — тихо сказала,
прожевывая булку съ масломъ, Леночка. — Намъ говорили: — у васъ голодъ большой.
Ничего не хватаетъ.
— Все врутъ, милая. И тутъ, какъ и тамъ врутъ.
А ты не вѣрь… Никому и тутъ не вѣрь.
И опять замолчали.
Неонила Львовна смотрѣла, не сводя глазъ
на Леночку. Все было въ ней такъ необычно. «Съ совѣтскимъ паспортомъ», —
думала старуха. — «Хуже, чѣмъ съ волчьимъ… Право — лучше бы «желтый
билетъ» у ней былъ… Никуда не примутъ. Ни туда — ни сюда… И замѣнить,
сколько хлопотъ будетъ. Гдѣ помѣстить ее?… Какъ содержать?… Ѣстъ
то какъ много!… Куда ее устроить?… Что она умѣетъ дѣлать?… Ну,
помѣстить?… Помѣщу къ себѣ. Больше и некуда. Рядомъ
полковникъ съ Ольгой… Не къ нимъ же?… На верху — Шурка дуракъ… Мишель Строговъ…
А деньги?… Надо какъ нибудь поддержать… Вѣдь брата родного внучка»…
Послѣ кофея разставляли въ маленькой
комнатушкѣ мебель, устраивая ложе для Леночки. Разсматривали ея барахло.
Вещей, бѣлья, платьевъ у дѣвушки ничего не оказалось. Все надо
будетъ купить.
— Деньги то, Лена, есть ли у тебя?
Дѣвушка со смѣхомъ высыпала
содержимое стараго Русскаго кошелька на столъ.
— Вотъ, посчитайте: — тридцать пять…
нѣтъ… вру… сорокъ сантимовъ. Всѣ и мои капиталы… Настоящая
капиталистка… Буржуйка… Я, бабушка трудовой народъ… Пролетарка стопроцентная…
XIII.
Послѣ ужина вся семья осталась
сидѣть за круглымъ столомъ. Мишель Строговъ не сводилъ узкихъ глазъ съ
милаго лица Леночки. Полковникъ слушалъ, задавая отъ поры до времени вопросы, и
каждый его вопросъ заставлялъ Леночку умолкать, настораживаться и уходить въ
себя.
«Нѣтъ все-таки она очень запугана», —
думала, наблюдая Леночку, Ольга Сергѣевна.
Леночка оживленно разсказывала своимъ не
всегда понятнымъ языкомъ о томъ, какъ проводится смычка города съ деревней, о
работѣ въ кол-хозахъ, о задачахъ пятилѣтки. Она говорила такъ,
точно ей шелъ не восемнадцатый, а по крайней мѣрѣ тридцать пятый
годъ и была она проповѣдницей новой вѣры.
— У насъ… Америкѣ не уступитъ… Черезъ
два года переплюнемъ и Америку.
— Такъ у васъ же голодъ!… Голыми люди ходятъ!
Вонъ въ какихъ лохмотьяхъ вы прiѣхали, смотрѣть страшно.
Тебѣ, Леля, надо будетъ завтра со службы отпроситься, да въ «Самаритэнъ»
ее свести, одѣть, обуть надо, — рѣзко сказалъ полковникъ.
— Это… голодъ, дядя, пока, — быстро и твердо,
какъ заученный урокъ сказала Леночка.
— Ну… А какъ красная армiя?…
Точно какая то тѣнь пробѣжала по
глазамъ Леночки. Какъ то рѣзче выдались скулы.
— Ничего, дядя.
— Ну, а все-таки?… Въ Бога, напримѣръ,
не вѣритъ?…
— Кто хочетъ вѣритъ… Кто не хочетъ…
Никто не насилуетъ, — холодно отвѣтила Леночка. Ея оживленiе какъ то
сразу пропало.
Ольга Сергѣевна пришла на помощь
племянницѣ.
— Ты маму вспоминаешь?…
— Да.
— Какъ же ее похоронили?…
— Обыкновенно какъ… Отвезли въ Троцкѣ на
кладбище и зарыли…
— Безъ священника, — съ ужасомъ сказала Ольга Сергѣевна.
— Гдѣ это еще такой Троцкъ? — возмутился
полковникъ и закурилъ чуть не десятую папиросу. Разговоръ его очень уже
волновалъ. Онъ потомъ признавался, что у него было такое чувство, какое
бываетъ, вѣроятно у собаки, когда та лаетъ на кошку, забравшуюся на
дерево. Весь онъ какъ то подобрался и напружился. Въ виски у него стучало.
Очень хороша была Леночка и такъ напоминала ему его Лелю, когда первый разъ
увидалъ онъ ее на гимназическомъ балу. И вмѣстѣ съ тѣмъ было
въ ней нѣчто чуждое и какъ бы страшное… «Совдепка»!…
— Священникъ… Очень дорого… И мама?… Она никогда
не ходила въ церковь.
— Ну, а какъ же эти люди, которые?… Ты съ ними
потомъ жила?… Видалась?… Ужасные, должно быть, люди, — плохо скрытыя
брезгливость и пренебреженiе были въ голосѣ Ольги Сергѣевны. Она не
посмѣла сказать прямо: — «убiйцы твоей матери».
— Тетя… Послушайте… Но мама же сама была во
всемъ виновата. Она ихъ все хамами называла… Они на это обижались. И потомъ.
Вотъ у васъ тѣсно. А тамъ жил-площадь ужасно какая маленькая… A y мамы
двѣ комнаты… Ну и они злились.
Нѣтъ, Леночка не осуждала убiйцъ своей
матери. Она ихъ понимала. И страшной казалась ея чисто Русская красота. Она была
другая. Изъ другого мiра, гдѣ иныя были понятiя и новая была мораль. И
что въ ней было — своя правда, которой ни полковникъ, ни Ольга Сергѣевна
не могли постигнуть, или страшная безъоглядная сатанинская ложь? Это сразу
почувствовали, и даже самоувѣренный и самовлюбленный Мишель Строговъ
понялъ, что Леночка говоритъ точно на какомъ то другомъ языкѣ.
Она принесла съ собою на виллу «Les
Coccinelles» большiя заботы. Прежде всего заботы матерiальныя, Нордековы еле
концы съ концами сводили. «Мамочка» давно продала все, что только можно было
продать. Она готовила ужинъ и прибирала комнаты, тѣмъ помогая своей
дочери и зятю. Мишель Строговъ былъ «самъ по себѣ». Съ него взятки были
гладки. Онъ платилъ за столъ и квартиру и врядъ ли онъ далъ бы что нибудь на
Леночку. Устроить Леночку на службу, по крайней мѣрѣ, въ ближайшее
время было невозможно… Сразу было видно, что она ничего не умѣла
дѣлать. Пролетарская школа второй ступени не дала ей ничего для того,
чтобы она могла зарабатывать хлѣбъ. Правда она знала французскiй языкъ.
Рукодѣлiемъ не занималась, по Русски писала — по совѣтски, —
значитъ: — здѣсь это ни къ чему. Манеры у нея были такiя, что даже въ
третье-разрядный ресторанъ подавалыдицей ея не приняли бы. И притомъ — красота!…
Оригинальная Русская, съ французской точки зрѣнiя — экзотическая —
красота!… Ей гейшу на сценѣ безъ грима играть! Въ Русскомъ сарафанѣ
Русскую плясать!… да умѣетъ ли еще? При ея годахъ, при ея морали —
скользкiй это былъ путь и ни Ольга Сергѣевна, ни даже Неонила Львовна не
хотѣли рисковать толкнуть на него Леночку.
Внесла она и заботы моральныя. Съ
совѣтскимъ паспортомъ!… Какъ сказать объ этомъ знакомымъ?… Безбожница?…
Какъ повести ее въ церковь? гдѣ такой красавецъ и святой священникъ…
Прiѣхала изъ Совѣтской Россiи. A y исповѣди была?… Ее
распрашивать станутъ, а она вотъ какая!… Чуть посерьезнѣе вопросъ и
замолчитъ, уйдетъ, какъ улитка въ раковину, ежомъ свернется въ клубокъ, и
только красивые глаза горятъ исподлобья недобрымъ, недовѣрчивымъ огнемъ…
Точно и не человѣкъ, а какой то хищный, красивый звѣрекъ.. Какъ
такую покажешь ихъ колонiи?… Заподозрятъ чего добраго въ шпiонажѣ?…
Чураться будутъ ихъ дома. Совдепка!… Какое это страшное слово! Хуже чумы, или
оспы. Точно заразно больная у нихъ появилась… Какъ, почему ее выпустили?… Вотъ
другiя бѣгутъ, съ опасностью для жизни тайкомъ перебираются черезъ
границу, идутъ «нелегально». Выходятъ фиктивно замужъ за латышей, эстонцевъ,
поляковъ… А она съ совѣтскимъ паспортомъ!… Значитъ, были у ней какiя
нибудь заслуги передъ совѣтской властью. Значитъ что то въ ней есть… ее
бы распросить?… Да, такъ она вамъ и отвѣтитъ!… Вотъ она какая! Полковникъ
спросилъ ее: — «есть ли въ красной армiи барабаны?…»
— He знаю, — коротко и рѣзко сказала
Леночка.
— А какiе конные полки видали вы въ
Петербургѣ?
— Я никакихъ полковъ не видала, — какъ ножомъ
отрѣзала Леночка.
Развѣ съ ней разговоришься?
Леночку уложили пораньше спать. Глаза у нея
слипались. Очень она устала съ дороги. «Мамочка» и Нордековы заперлись въ
полковницкой комнатѣ на семейный совѣтъ. Говорили шопотомъ.
Стѣны тонкiя, дверь, какъ изъ картона. Французскiй домъ… Пересчитали отложенное
на черный день на случай чьей нибудь болѣзни или смерти: — тысяча
двѣсти тридцать франковъ. Еще полковникъ могъ въ своемъ объединенiи
позаимствовать двѣсти. На эти деньги надо обрядить Леночку. У нея всего
одна рубашечка, да и та такая заношенная, что здѣсь ни одна прачка не
возьметъ ее стирать.
Завтра въ часы перерыва Ольга Сергѣевна
откажется отъ завтрака и поѣдетъ съ Леночкой въ «Samaritaine» одѣть
ее. Мамочка привезетъ ее до Парижа. Ha Marche des puces полковникъ ей купитъ
какое нибудь sommier, подушку и одѣяло.
Когда разошлись они всѣ трое, наконецъ,
по постелямъ было у нихъ на душѣ что то особенное. Смущена была ихъ душа.
Точно вошло въ ихъ жизнь что то новое, неизвѣстное и страшное, но
вмѣстѣ съ тѣмъ и родное, родное, родное!!…
Это чувство, уже засыпая, Ольга
Сергѣевна весьма ясно опредѣлила.
— Ты спишь, Георгiй, — спросила она.
— Ну?
— Ты знаешь?… Отъ нея Россiей все таки пахнетъ…
Вотъ, какъ у насъ сирень пахнетъ… А тутъ цвѣла, а запаха почти и не слышно…
Вотъ и мы… Отъ насъ Россiей никакъ уже не пахнетъ… Выдохлись мы… А она, хотя и
совѣтская, а все Русская.
— Ну, ну, — промычалъ полковникъ и повернулся
на другой бокъ.
XIV.
Странная была Леночка. Она старалась помогать
по хозяйству «мамочкѣ». По вечерамъ сидѣла со всѣми за
ужиномъ, но почти всегда молчала. Если ее о чемъ нибудь спросятъ — она коротко
отвѣтитъ: — «да»… «нѣтъ». А больше отзовется незнанiемъ: — «не
слыхала»… «не знаю»…
Ho, когда всѣ уѣдутъ въ городъ на
службу, и «мамочка», напившись кофею, приляжетъ «на часокъ» — отъ 2-хъ до 5-ти,
— Леночка тихой мышкой сбѣжитъ въ подвальчикъ къ Нифонту Ивановичу.
Старый казакъ сидитъ на низкомъ стульцѣ
— такъ почему то полагается сапожнику, — противъ него сучитъ дратву Фирсъ. Изъ
открытой въ сосѣднюю каморку двери несетъ парнымъ бѣльемъ, тамъ
шлепаютъ босыя ноги: — суетится Зося со стиркой.
Леночка войдетъ въ каморку и сядетъ на
единственный стулъ, предназначенный для заказчиковъ. Такъ сидитъ она довольно
долго, наблюдая работу.
— Дѣдушка, дайте-ка и я попробую.
Нифонтъ Ивановичъ охотно ей показываетъ.
— Самое правильное, барышня, по
нынѣшнимъ временамъ рукомесло, — наставительно говоритъ Нифонтъ
Ивановичъ. — Новые башмаки съ нынѣшнимъ кризисомъ кто укупитъ? Подметки
всякому нужны… Въ дырявыхъ башмакахъ долго не проходишь. Чинка, заплаты — отбоя
нѣтъ… Французы мою работу очень даже уважаютъ… Моя подметка на годъ… Хотя
по стеклу толченому ходи.
Леночка поработаетъ съ часокъ. Потомъ отложитъ
работу, откинется на спинку стула и запоетъ:
— Жила была Россiя
Великая держава.
Враги ее боялись —
Была и честь и слава…
Голосокъ у нея жиденькiй и слабый, но поетъ
она вѣрно, и такъ жалобно, что Нифонтъ Ивановичъ задумается и отложитъ въ
сторону инструментъ.
— Теперь ужъ нѣтъ Россiи:
— Россiя
вся разбилась
Ахъ Солнышко!…
Куда ты закатилось?…
— Эту пѣсню, барышня, у насъ на
Лемносѣ тоже пѣли. Ну только не такъ жалостно. Гдѣ вы ее
узнали?…
— Въ Ленинградѣ, помню, эту пѣсню
дѣтишки пѣли. Вотъ этакiя — Леночка показала на полъ аршина отъ земли,
— совсѣмъ маленькiя… Какъ ихъ ругали!…
Запрещали настрого… А они пѣли… Да…
Правда… Я помню…
— Поди, кто ихъ училъ.. He безъ того… Леночка надолго
примолкла. Потомъ вдругъ устремила глаза куда то въ даль, гдѣ точно она
что то видѣла давнее и далекое и стала говорить съ какою то внутреннею
дрожью:
— Я помню… Это еще тогда… Раньше было…
Извощикъ по Загородному ѣдетъ. И на немъ офицеръ съ бѣлымъ
околышкомъ… Преображенскiй что ли?… Безъ ноги… Раненый, значитъ… Инвалидъ… Ногу
у него на войнѣ отняли. И два солдата съ нимъ… Съ ружьями… И, значитъ,
бьютъ его… Толкаютъ.. Кровь съ лица течетъ… Да… Правда… А онъ блѣдный,
нахмуренный… Что онъ думаетъ?… И молчитъ… He пикнетъ.. И глаза такiе… Страшные,
престрашные… Я хоть и маленькой тогда была, а помню…
Нифонтъ Ивановичъ, сосредоточенно нахмурясь,
моталъ рукою съ шиломъ, сшивая кожу. Фирсъ пересталъ работать и внимательно, не
мигая, смотрѣлъ на Леночку. Въ мастерской было тихо и только рядомъ
негромко плескала вода и мокро шлепало бѣлье…
Леночка подняла опущенную головку и негромко
запѣла:
— Схоронили яблочко,
Остался только кончикъ,
А теперь вся наша жизнь
— Кисленькiй лимончикъ…
— Вотъ, помню, маму хоронили… Вотъ ужасъ то
былъ!… Ее убили и пока тамъ вскрытiе было, да разбирали, почему она умерла, —
она, знаете, и протухла. Мнѣ ее изъ больницы выдали — вези на кладбище.
Да… просто сказать… Гробовъ нѣтъ… И на прокатъ то взять такъ и то дорого.
Барашкина жилица, — она потомъ повѣсилась, — взялась мнѣ помочь.
Взяли мы салазки… А снѣгу то еще и нѣтъ совсѣмъ. Привязали маму
и повезли. А салазки, знаете, короткiя, и ноги по землѣ волочатся. Кожа
даже сходитъ. Кости обнажаются… Вотъ было страшно то…
Въ мастерской стало томительно тихо. У Нифонта
Ивановича сосало подъ ложечкой. Слышно было, какъ за стѣной и
совсѣмъ недалеко непрерывно гудѣлъ Парижъ. Иногда по rue de la Gare протрещитъ мотоциклетка,
и стихнетъ вдали за поворотомъ. Вдругъ громко прошумитъ грузовикъ, стѣны
домика затрясутся и опять станетъ тишина, сопровождаемая немолчнымъ гуломъ
города гиганта.
— Много и вы повидали, барышня, — какъ то проникновенно,
съ большимъ уваженiемъ и глубокою сердечною жалостью сказалъ старый Агафошкинъ.
Леночка посмотрѣла на него. Золотыя
искры зажглись въ ея глазахъ. Она погладила Топси, лежавшую на полу между нею и
Нифонтомъ Ивановичемъ и сказала съ нескрытою насмѣшкою:
— Послушайте, что вы мнѣ все «барышня»,
да «барышня»… Какая я барышня?… Или еще того смѣшнѣе, дядю «ваше
высокоблагородiе» называете? Такого и слова то нѣтъ… Смѣшно ужасно
и дико…
Нифонтъ Ивановичъ растерялся. Онъ не зналъ,
что и отвѣтить. Хмуро и со злобою пробурчалъ Фирсъ:
— Потому въ васъ голубая кровь… Слыхали, можетъ
быть?
Леночка безтрепетно взглянула прямо въ узкiе,
сосредоточенные, такiе же упорные, какъ у Мишеля Строгова, глаза Фирса.
— Это то я давно слышала… Еще тамъ… Помню…
Только большевики давно всю голубую кровь повыпускали… Нѣтъ ея больше.
— Видать… Осталась… Нифонтъ Ивановичъ уже
нашелся.
— Скольки разовъ я грворилъ тебѣ,
обормотъ, что никакой голубой крови нѣтъ. Каждый могётъ своего достигнуть…
Очень даже просто… Кажный… Отъ солдата до генерала дорога одна: — усердiе къ
службѣ, рвенiе передъ Государемъ, вѣра въ Господа, молитва и
храбрость… А голубая кровь очищается черезъ образованiе. Понялъ?…
Фирсъ весь вскипѣлъ. Оиъ съ сердцемъ
бросилъ на кирпичный полъ колодку и сказалъ со злобою:
— Ежели образованiе, то подавай его
всѣмъ равно… Ты инженеръ и я инженеръ… Ты офицеръ и я офицеръ… A то
однимъ ниверситетъ съ профессорами, a другимъ начальная школа съ учительшей,
что ни бэ ни мэ не мэмэкаетъ.
Фирсъ былъ такъ взволнованъ, что вышелъ изъ мастерской
и поднялся въ садикъ. Слышно было черезъ окно, какъ онъ тамъ шумно вздыхалъ и
чиркалъ спичку — курить собирался.
— Онъ у васъ такой, дѣдушка? — прикрывая
маленькой смуглой ручкой ротъ тихо спросила Леночка.
— Какой такой?…
— Большевикъ!..
— Ну да, — недовольно проворчалъ дѣдъ. —
Какой онъ большевикъ ? Дуракъ стоеросовый и все… Обормотъ!…
Леночка вскочила со стула и стремительно прошмыгнула
изъ мастерской. Топси, виляя хвостомъ, бросилась за нею.
— Фирсъ Петровичъ, пожалуйста, снизойдите къ
намъ. Устроимъ смычку между голубою и алою кровью. Я вамъ пѣсню про ваше
сапожное дѣло спою.
Фирсъ, мрачный, накурившiйся, нарочно стуча сапогами,
спустился въ мастерскую и взялъ колодку. На дѣда онъ не смотрѣлъ.
Ворочалъ колодку подъ самымъ носомъ, точно облизать ее хотѣлъ. Леночка
стала у окна. Низъ ея тѣла былъ въ тѣни. Только стройный станъ и
головка съ растрепавшимися волосами были освѣщены голубоватымъ
свѣтомъ. Кончики волосъ свѣтились какъ бы окруженные ореоломъ.
Леночка подняла голову и запѣла весело и звонко, не боясь разбудить
«мамочку».
— Растоптала я ботинки,
А мой милый сапоги.
Каждый день ходи на сходки,
Митинги, да митинги…
XV.
Вотъ и разгадай ее, эту Леночку? Ни «мамочка»,
ни Ольга Сергѣевна, ни полковникъ, ни даже самъ премудрѣйшiй
Нифонтъ Ивановичъ понять ее не могли.
— Ну, какъ ты нашла Шуру? — спросила Леночку
Ольга Сергѣевна.
— Ахъ, тетя… Я его совсѣмъ не узнала,
такъ онъ перемѣнился. Прелесть. Настоящiй человѣкъ. Онъ пробьетъ
себѣ дорогу… И что мнѣ особенно нравится — что онъ — Мишель
Строговъ!… Значитъ — безъ предразсудковъ. Отказался отъ отцовской фамилiи и
имени. Онъ таки завоюетъ себѣ мѣсто на землѣ.
Леночка искала случая оставаться вдвоемъ съ
«настоящимъ человѣкомъ». Она ходила встрѣчать его на станцiю и провожала
его до дома. Она брала въ свою маленькую ручку его большую сырую отъ работы и
усталости руку и такъ шла съ нимъ какъ ходятъ дѣти. Мишель смущался,
краснѣлъ, но руки не отнималъ и шелъ, надутый и важный. Они больше
молчали. Леночка смотрѣла на него восторженными глазами и не знала, что
сказать. Однажды, во время такого шествiя она вдругъ и совершенно неожиданно
выпалила:
— Мишель!… Я хотѣла бы, чтобы вы
мнѣ сдѣлали ребенка.
Она сказала это совершенно серьезно, почти
строго, прямо глядя въ немигающiе глаза Мишеля. Сказала съ такою откровеиною
наивностью, что Мишель смутился и совершенно растерялся. Онъ выдернулъ свою
руку изъ ея руки и почти побѣжалъ къ дому. Дома онъ заперся въ своей
комнатѣ.
Онъ считалъ себя «безъ предразсудковъ». Но и
ему это показалось слишкомъ грубымъ.
Въ эти, какъ разъ дни Топси вдругъ
пополнѣла, и Ольга Сергѣевна сказала, что она щенная, что у нея
дѣти будутъ, а полковникъ доказывалъ, что это потому, что она кушаетъ
слишкомъ много.
И Мишелю Строгову пришла на память Топси. He эстетъ
онъ былъ, конечно, но сопоставленiе собаки съ тѣмъ, что ему «выпалила»
Леночка было ужасно. Онъ не хотѣлъ спускаться къ ужину, но матерiальныя
соображенiя, что за ужинъ имъ заплачено взяли верхъ и онъ сошелъ къ столу.
Леночка была въ рѣдкомъ настроенiи
возбужденiя, когда ее вдругъ точно прорывало и она говорила затверженные въ
школѣ уроки и проповѣдывала новую мораль. Ея лицо пылало. Золотыя
искры сверкали въ ея глазахъ. Полковникъ оперся лицомъ на ладони и съ
нескрываемой тоскою слушалъ ее. Ольга Сергѣевна плакала. «Мамочка», не
мигая, смотрѣла на внучку маленькими, хищными глазками.
— Нацiонализмъ и патрiотизмъ, — рубила
Леночка, — чувства, заслуживающiя презрѣнiя. Я знаю народъ… Кажется
повидала его достаточно. Въ школѣ кругомъ меня все были дѣти народа.
Народъ не интересуется величiемъ своей Родины. Короли и буржуи выдумали это
совсѣмъ ненужное слово. Будущее это — интернацiоналъ… Намъ съ высокаго
дерева плевать на историческiя традицiи, на красоту и на религiю… Все это
продукцiя прежней болѣзненной сентиментальности… Вы, дядя, давали
мнѣ читать Тургенева. Я его не понимаю… Одинъ вздоръ. И Пушкинъ вздоръ —
мармеладная конфетка, сладкая резина, что жуютъ американцы.
— Но какъ же, Леночка, поднимая голову на
племянницу съ тоскою въ голосѣ сказалъ полковникъ. — Вы еще такъ недавно
говорили намъ, что, когда кончится пятилѣтка, большевики перещеголяютъ
Америку… Вы гордились этою самою Америкою.
— Да… говорила… Ну что жъ?
— Но это же патрiотизмъ.. Скрытый
патрiотизмъ!..
— Ахъ, что вы, дядя!… Это торжественное
шествiе интернацiонала!… Это завоеванiе мiра большевиками.
Ольга Сергѣевна не могла больше
выносить. Она встала и пошла въ переднюю мыть посуду. За нею прошлепала
«мамочка». Мишель Строговъ, уязвленный тѣмъ, что Леночка смотрѣла
на него, какъ на пустое мѣсто, ушелъ къ себѣ и, запершись на ключъ,
углубился въ чтенiе «Le Sport», единственной газеты, которую онъ признавалъ.
Полковникъ внимательно, съ глубокою жалостью,
смотрѣлъ въ прекрасные Леночкины глаза. Она смѣло выдерживала его
взглядъ. Ея щеки горѣли, какъ въ лихорадочномъ жару.
— Родина — мать, — тихо сказалъ полковникъ.
Ему казалось, что голосъ его былъ тепелъ и глубокъ. Онъ вложилъ много чувства и
сердца въ эти слова. — Съ любви къ родителямъ, къ отцу и матери, и начинается
патрiотизмъ. Семья… Потомъ — Родина… И только послѣ всего этого —
человѣчество. Вѣдь любили же вы свою маму, такъ трагически
окончившую жизнь?
— Любила?… Я какъ то не думала никогда объ
этомъ… Когда мы увязывали съ гражданкой Барашкиной протухшее тѣло на
салазки, я не плакала. Я только думала, какъ бы поскорѣе это кончить.
Мнѣ было все-все равно. Я точно провѣрила свое дочернее чувство. И,
знаете, его у меня не было. Да его и не должно быть. Это чувство животное, не
достойное культурнаго человѣка. У прежнихъ людей оно было привито искусственнымъ
образомъ черезъ религiю. Я не коммунистка и ею никогда не была. Но, когда мы
увязывали мамино тѣло, гражданка Барашкина мнѣ сказала, что мама
была буржуйка и что она была врагомъ рабочихъ и крестьянъ, вообще всего
трудового народа. Я промолчала… Но это была правда. Мама всегда рабочихъ
называла хамами. Она ихъ и точно не любила.
— Да… Вотъ оно какъ!… Что же это за новое
поколѣнiе растетъ въ Россiи?…
Леночка встала. Ея красивая грудь часто вздымалась.
— Это растетъ… Да, конечно, новое
поколѣнiе… He смѣшные ваши Рудины, Онѣгины и Райскiе, Донъ
Кихоты Россiйскiе, на комъ вы хотите воспитывать меня, но поколѣнiе, не
знающее сентиментализма. Настоящiе борцы за право жить.
— Васъ хорошо и крѣпко учили въ
школѣ второй ступени.
— Учили… Да… Ho, дядя… Когда такъ жить хочется…
Ахъ какъ хочется жить!..
Леночка закинула руки вверхъ и назадъ,
охватила ладонями затылокъ и, качая бедрами, вышла изъ комнаты. Она спустилась
въ маленькiй палисадникъ, въ темноту ночи.
Тамъ она долго стояла, опершись о калитку спиною
и смотрѣла на незавѣшенное, ярко освѣщенное окно Мишеля. Но
окно было высоко, балкончикъ загромождалъ его, и не было видно, что
дѣлаетъ тамъ Мишель Строговъ.
Въ подвалѣ у Агафошкина погасли огни. Въ
комнатѣ у полковника спустили штору и зажгли лампу; полковникъ и Ольга
Сергѣевна ушли изъ мамочкиной
комнаты. Тогда Леночка медленно пошла домой.
«Зачѣмъ я это говорила», — думала она. —
«Развѣ могутъ они понять меня?… Слѣпорожденные… Какъ я могу понять
ихъ «Дворянское гнѣздо»?… Гнѣздо… Гнѣздо… Какъ это
смѣшно звучитъ!…»
Она всходила на лѣстницу и повторила уже
вслухъ:
— Гнѣздо… Это — гнѣздо?… И
здѣсь Евгенiй Онѣгинъ, или Вѣра изъ «Обрыва»… Bee y нихъ въ
прошломъ!… Все — земное и непонятное… Идеалы… А я тянусь къ будущему… Къ
свѣтлому будущему… Къ звѣздамъ!!..
XVI.
Съ кѣмъ согрѣшила Топси такъ и
осталось невыясненнымъ. Во всякомъ случаѣ врядъ ли съ косматымъ и
колючимъ Марсомъ. Щенята родились темненькiе, темнѣе матери и такiе, нѣжные
и пушистые, точно кроты. Съ тоненькою, короткою, бархатистою шерсткою.
Топси ощенилась утромъ въ саду. Въ этотъ день
она не принесла полковнику газеты, но по одному перетаскала всѣхъ шесть
щенятъ въ зубахъ и положила ихъ на коврикѣ подлѣ печки.
Всѣ любовались ими. Даже полковникъ не
разсердился на то, что онъ остался безъ газеты. Ольга Сергѣевна, какъ
сѣла надъ ними, такъ и свой кофе позабыла и чуть не опоздала на службу.
Такiе они были забавные, слѣпые и безпомощные. Такъ славно чмокали они,
уткнувшись въ грудь матери. Топси съ благосклонною гордостью показывала ихъ
всѣмъ, и заботливо тыкала мордою тѣхъ, кто не сразу находилъ,
гдѣ сосать.
Въ этотъ день, кажется, первый разъ полковникъ
съ Ольгой Сергѣевной обмѣнялись двумя словами, когда расходились у
вокзала Invalides.
— Что же мы будемъ съ ними дѣлать? —
сказалъ полковникъ.
— Они прелестные, — сказала Ольга
Сергѣевна. Ея грудной голосъ звучалъ тою молодою красотой. которою она
нѣкогда покорила Георгiя Димитрiевича.
И супруги разошлись. Въ этотъ день солнце ярко
свѣтило. Сена была въ золотистыхъ искоркахъ и крыша на grand Palais нестерпимо
сверкала. Зеленоватые бронзовые кони на ея углу несли колесницу съ голымъ
богомъ въ голубыя дали. По небу плыли розовые барашки. Само небо походило на
тѣ яркiе плафоны, что украшаютъ Версальскiй дворецъ. Казалось, что вотъ
вотъ раздвинутся шире розовыя облака, обратятся въ раковины, въ гирлянды
цвѣтовъ, и изъ за нихъ проглянетъ въ серебряномъ хитонѣ
торжественно шествующая Аврора, окруженная трубящими въ золотыя трубы генiями.
Дѣлать что то со щенятами было нужно. Въ
тѣсныхъ комнатахъ они мѣшали. Хозяинъ сказалъ, чтобы ихъ не было.
Онъ и Топси не разрѣшалъ держать, но только терпѣлъ ее.
— II faut debarrasser, — сердито, тономъ, не
допускающимъ возраженiя сказалъ онъ. — II faut!
Нордековы знали цѣну французскаго «il faut»…
«II faut
payer»… «II faut vivге»… «Quand meme»… «Mais —
alors…»
— Что же, топить ихъ развѣ придется, —
сказалъ раздумчиво Нифонтъ Ивановичъ.
— Зачѣмъ топить?… Ну, сказали тоже?… По
людямъ раздадимъ, — вмѣшался Фирсъ.
Ho раздать no людямъ оказалось не такъ то
просто. Напрасно предлагала ихъ Ольга Сергѣевна въ церкви пѣвчимъ и
отцу дiакону и самому батюшкѣ. Всѣ сочувствовали ей.
Нѣкоторые даже приходили полюбоваться на нихъ, находили ихъ
удивительными. Одна хористка, и тоже полковница, безъ конца цѣловала ихъ,
прижимала къ груди, тискала, выбирала, кого возьметъ, разглядывала, кто
мальчики, кто дѣвочки, а взять такъ никто и не рѣшился.
— Знаете, у насъ хозяинъ, ни за что не
позволитъ.
— Мы отъ жильцовъ комнату имѣемъ… Намъ
никакъ нельзя.
— Рада бы, милая, взять, да консьержка у насъ
чистая вѣдьма…
И топить ихъ тоже не смогли.
Сказали Нифонту Ивановичу. Тотъ руками
замахалъ.
— Ну что вы, ваше высокоблагородiе… Никакъ это
невозможно. Божiя тварь вѣдь… Это все одно, какъ дите потопить.
Отказался и Фирсъ.
Мишель Строговъ посмотрѣлъ своимъ неломающимся
взглядомъ узко поставленныхъ глазъ и проворчалъ:
— Мараться то не охота.
Такъ и жили они, приговоренные къ смерти, жили
потому, что оказалось приговорить то ихъ къ смерти приговорили,а привести
приговоръ въ исполненiе никто не рѣшался: не было палача.
A y собачекъ между тѣмъ уже
прорѣзались глазки. Черными блестящими изюминами смотрѣли на
свѣтъ Божiй, и такая была въ нихъ радость бытiя, что у всѣхъ
обитателей виллы «Les Coccinelles» нестерпимо болѣли сердца и тяготила
тяжкая дума, какъ бытiе это отъ нихъ отнять.
XVII.
Весною у полковника было такъ много
воспоминанiй и поминальныхъ дней. И тяжелыхъ, печальныхъ и героическихъ.
Ледяной походъ… Атака Екатеринодада… Смерть Корнилова… Все это заставило
полковника соприкоснуться съ былыми боевыми друзьями соратниками. Къ огорченiю
Ольги Сергѣевны было много выпито и еще болѣе произнесено хорошихъ,
бодрыхъ рѣчей о побѣдахъ прошлыхъ и о побѣдахъ будущихъ…
«Борьба продолжается»…
Размякшiй полковникъ наприглашалъ на ближайшее
воскресенье гостей.
Всѣ позванные имъ были люди твердые,
вѣрующiе въ окончательную побѣду, не «свернувшiе знаменъ», честные,
славные и бодрые люди и потому, — полковникъ это отлично понималъ — особенно
ненавистные Ольгѣ Сергѣевнѣ.
Но, назвался груздемъ — полѣзай въ
кузовъ. Ольга Сергѣевна была нѣкогда полковой дамой хоть куда и
обычаи гостепрiимства знала. Сцена была только домашняя — до прiема —акъ самому
прiему гроза и буря миновали. «Мамочка» и Леночка были мобилизованы. На
кругломъ обѣденномъ столѣ тонко катали тѣсто и рюмкою
отбивали кружки для разсыпчатаго печенья «совсѣмъ, какъ въ Россiи».
Нифонтъ Ивановичъ съ Фирсомъ — не ударить же въ грязь лицомъ виллѣ «Les
Coccinelles» — носили бутылки блѣднаго бѣлаго «ординера» и толстыя
пузатыя бутылки краснаго вина съ этикеткой, гдѣ былъ изображенъ румяный
красный почтальонъ въ сѣромъ цилиндрѣ…
По словамъ полковника готовился еще и
сюрпризъ, и Ольгѣ Сергѣевнѣ было сказано, что особенно думать
о закускѣ не приходится: — гости сами принесутъ закуску.
Погода выдалась замѣчательная. Сирень въ
палисадникѣ цвѣла. Въ клумбахъ хозяинъ натыкалъ какихъ то
цвѣтовъ. И, если что смущало — такъ это категорическое приказанiе хозяина,
чтобы завтра никакихъ щенятъ ни подъ какимъ видомъ не было. А они, какъ на зло,
такъ уморительно, весело и безпечно кувыркались и рѣзвились подлѣ
своей мамаши…
Вечеръ обѣщалъ быть теплымъ.
Рѣшено было прiемъ устроить въ палисадникѣ. Co всего дома вынесли
столы и стулья, приспособили скамьи. Посуда была разнокалиберная: — ее занимали
черезъ дачу у знакомыхъ Русскихъ. Столы были безъ скатертей. He всѣмъ
было на что сѣсть, — но всякiй же долженъ понимать, что это не мирный
прiемъ у царскаго полковника Нордекова, a прiемъ на походѣ («война
продолжается») — и потому: — a la guerre comme a la guerre — эта старая избитая
поговорка, какъ нельзя болѣе подходила къ обстановкѣ прiема у
Нордековыхъ.
Въ восьмомъ часу Нифонтъ Ивановичъ сталъ хлопать
пробками, откупоривая бутылки. Неонила Львовна торжественно принесла большое
блюдо тонко нарѣзанныхъ сандвичей, а Леночка, сiяя красотою своихъ девятнадцати
лѣтъ и новаго Парижскаго платья, разставляла стаканы и рюмки. Ольга
Сергѣевна съ Зосей и Фирсомъ на двухъ газовыхъ плиткахъ въ двухъ этажахъ
кипятили большiе чайники. Полковникъ похаживалъ, поджидая гостей и о чемъ то
таинственно перешептывался съ Нифонтомъ Ивановичемъ.
Первыми пришли Парчевскiе и съ ними безрукiй
инвалидъ, молодой и молодцеватый капитанъ Ротовъ. Они принесли съ собою
небольшой чемоданчикъ.
— Что это, господа, — говорила, цѣлуясь
съ Лидiей Петровной Парчевской, Ольга Сергѣевна, — развѣ такъ
полагается со своей закуской въ гости ходить?… Совсѣмъ это напрасно такое
баловство.
Парчевскiй, нарядный, въ прекрасномъ
сѣромъ костюмѣ, съ большими «гусарскими» усами на холеномъ бритомъ
лицѣ, изящно склоняясь и цѣлуя руку, сказалъ:
— Это все Кавказъ надумалъ. Его и вините.
— Ольга Сергѣевна, дорогая, шашлыкъ
будемъ готовить, — сказалъ безрукiй капитанъ. Онъ говорилъ съ легкимъ
кавказскимъ акцентомъ. — У васъ тутъ великолѣпно… А я мастеръ по этой
части… И только, господа, прошу мнѣ не мѣшать… Кто помогаетъ — тотъ
мѣшаетъ — это основное правило… Никогда не надо этого забывать.
— Но, позвольте… Вѣдь шашлыкъ, кажется
надо на угольяхъ?…
— На угольяхъ, дорогая… Уголья несетъ
Ферфаксовъ.
— Но гдѣ же?… Какъ же?…
— Это не безпокойтесь, пожалуйста… Все соорудимъ…
Мнѣ бы только нѣсколько кирпичей достать… Больше ничего и не нужно…
— Гдѣ же вы думаете это дѣлать? —
уже съ безпокойствомъ сказала Ольга Сергѣевна.
— Въ саду, дорогая Ольга Сергѣевна…
Здѣсь прямо прекрасно въ затишкѣ.
— Но это же костеръ надо разводить?
— Никакой не костеръ… Немного угольковъ, чтобы
жаръ былъ.
— Но, господа, что вы такое придумали? Вы
знаете французскихъ хозяевъ… да насъ завтра съ квартиры погонятъ, если мы
здѣсь въ ихъ садикѣ костеръ будемъ раскладывать.
— Мы все приберемъ послѣ, дорогая Ольга
Сергѣевна, пожалуйста, не безпокойтесь… Станичникъ, — обратился Ротовъ къ
Нифонту Ивановичу, — нельзя ли у васъ тутъ нѣсколькими кирпичами
разжиться?
Нифонтъ Ивановичъ, живо заинтересованный
господской затѣей быстро спустился къ себѣ и принесъ шесть
крипичей.
— Такъ довольно будетъ, ваше высокоблагородiе?
— Отлично, — распоряжался какъ въ своемъ
собственномъ саду Ротовъ. — Вотъ онъ и Ферфаксовъ и съ углями.
— Но, господа, — пробовала еще протестовать
Ольга Сергѣевна, но приходъ новыхъ гостей отвлекъ ее.
Полковникъ Ферфаксовъ съ женою Анелей и съ
ними громадный полковникъ Амарактовъ, теперь булочникъ и музыкантъ, когда то
лихой командиръ броне-поѣзда проходили въ калитку. На Ферфаксовѣ,
какъ и на Амарантовѣ были надѣты новенькiе костюмы, оригинальнаго
покроя, и Ольга Сергѣевна сейчасъ же обратила вниманiе на ихъ платье. На
нихъ были совершенно одинаковые пиджаки, что ничего бы особеннаго не
представляло: — Русскiе офицеры всѣ болѣе или менѣе одинаково
одѣвались, но Ольгу Сергѣевну поразило то, что костюмы ихъ были — и
это она сразу своимъ женскимъ глазомъ подмѣтила и оцѣнила — не изъ
дешеваго «бѣженскаго» матерiала построены и не были куплены въ
универсальномъ магазинѣ готоваго платья, или на открытомъ рынкѣ, гдѣ
покупали они всегда, но сшиты изъ прекраснаго англiйскаго темно-синяго сукна и
у хорошаго портного. И покрой ихъ былъ особенный. Это были штатскiе пиджаки, но
было въ нихъ что то военное. Юбка была шире и длиннѣе, и карманы были
большiе. Воротъ былъ мало открытъ, за нимъ немного были видны тоже одинаковыя
сѣро-синiя рубашки и одинаковые галстухи синяго цвѣта съ узкой
серебряной дорожкой.
— Что это, господа, вы точно въ формѣ?…
Развѣ вы одного полка?
— Ну какъ, — здороваясь съ Ольгой
Сергѣевнойг отвѣчалъ Ферфаксовъ. — Я коренной Заамурецъ, а Викторъ
Павловичъ — лихой двѣнадцатой, Калединской.
Видъ у Ферфаксова былъ какой то хитрый и
таинственный. Подъ мышкой онъ держалъ большой пакетъ съ древеснымъ углемъ.
Ольга Сергѣевна хотѣла еще
попытаться протестовать противъ шашлыка въ ихъ садикѣ, но въ калитку входили
Дружко и молодой князь Ардаганскiй. Надо
было принимать ихъ. Князь Ардаганскiй — Михако
— его всѣ такъ звали несъ коробку съ пирогомъ. Онъ былъ тоже въ такомъ же
синемъ полувоенномъ костюмѣ, только галстухъ у него былъ безъ серебряной
строчки.
— У тебя, Георгiй Димитрiевичъ, совсѣмъ,
какъ на войнѣ, — говорилъ красивый Парчевскiй. — Знаешь у какой нибудь
халупы… А эти — онъ кивнулъ на дѣда и внука Агафошкиныхъ — ну право, какъ
деньщики изъ запасныхъ «дядей» и молодыхъ «бѣло-билетчиковъ»… Да вотъ оно
какъ!… И это во Францiи?… Шашлыкъ?…
А вѣдь и правда шашлыкъ!…
— Господа, — командовалъ Ротовъ, — прошу какую
нибудь папку, чтобы раздувать уголья.
Нифонтъ Ивановичъ, уже соорудившiй между поставленными
на ребро кирпичами маленькiй костерчикъ изъ бумаги и щепокъ, сейчасъ же
отозвался.
— He хорошо будетъ, я кусокъ подошвенной кожи
принесу?
— Отлично, станица.
Ферфаксовъ насыпалъ на костеръ уголья.
— Господа, только пожалуйста безъ помощниковъ!
Ротовъ скинулъ съ себя пиджакъ и, широко разставивъ ноги надъ угольями, большимъ
лоскутомъ твердой желтой кожи раздувалъ огонь. Душнымъ жаромъ несло отъ еще
черныхъ углей.
— Можетъ быть, Нико, вамъ помочь, нанизать мясо
на вертела, — сказалъ Парчевскiй.
— Никакихъ помощниковъ, сейчасъ и готово. —
Это почти-что, какъ балетъ. Дэвочки съ дэвочкамъ танцуютъ, а малшиковъ
почти-что нэтъ!
Откинувъ въ сторону подошвеныую кожу, Ротовъ
зажалъ подъ локоть ампутированной руки стальные вертела и ловко здоровой рукой
началъ низать сочные, розовые куски баранины. Сало текло по его пальцамъ. Онъ
ихъ отиралъ полотенцемъ, лежавшимъ на его колѣняхъ.
— Огонь все очищаетъ. На огнѣ все
сгараетъ. — приговаривалъ онъ.
Нифонтъ Ивановичъ замѣнилъ его надъ
угольями, которые уже начинали краснѣть. Гости толпились около костра.
Ротовъ накладывалъ на кирпичи вертела, и своеобразный запахъ поджариваемой
баранины шелъ отъ нихъ.
— Какъ это мнѣ Владикавказъ напоминаетъ,
— сказала Лидiя Петроiвна.
— А мнѣ Константинополь… Помните эти
маленькiя улички вечеромъ, — сказала Ольга Сергѣевна и тяжело вздохнула.
Пестрыя воспоминанiя рождались въ головахъ и
исчезали вмѣстѣ съ восточнымъ запахомъ поджариваемаго мяса.
— Господа, прошу садиться. Ольга
Сергѣевна, пожалуйте тарелки, — командовалъ Ротовъ.
Садились на чемъ, кому досталось. Ферфаксовъ,
Амарантовъ и князь Ардаганскiй усѣлись втроемъ прямо на землѣ.
Старый Агафошкинъ обносилъ стаканами съ краснымъ виномъ. Быстро темнѣло.
Надъ городомъ стояло розовое зарево. Въ садикѣ было сумрачно. Жидкiе
кустики сирени казались сплошною зарослью. За ними не стали видны заборы
палисадниковъ. Стоявшiй у входа въ переулочекъ высокiй фонарь бросалъ клочки
свѣта на деревья и кусты, и все въ этомъ неясномъ освѣщенiи стало
казаться не тѣмъ, что было. Нордекову и точно стало представляться, что
это не крошечная вилла «Les Coccinelles» въ Парижскомъ предмѣстьи, но
какой то бивакъ на войнѣ, и не заборы и стѣны домовъ стоятъ
кругомъ, но громадные прикарпатскiе лѣса. Трое гостей — Амарантовъ,
Ферфаксовъ и Михако — одѣтые въ однообразную одежду, въ одинаковыхъ
черныхъ шляпахъ съ широкими полями и правда были похожи на солдатъ какого то
экзотическаго, будто американскаго войска. Всѣ притихли. Занялись
шашлыкомъ. Раздавались короткiя замѣчанiя.
— Ну и шашлы:къ!… Такого и на Кавказѣ не
достанешь!…
— Хорошо было бы еще его съ барбарисомъ приготовить…
— Это Карскiй шашлыкъ.
— Нѣтъ, Карскiй шашлыкъ готовится изъ
цѣльнаго куска бараньяго сѣдла.
— И гдѣ это вы, Нико, такую баранину
достали?
— Удивительная баранина.
Леночка стояла сзади, смотрѣла и ничего
не понимала. Вотъ они тѣ «бѣлые», капиталисты, буржуи, о комъ она
такъ часто слышала въ Россiи… Ей говорили: — у нихъ голодъ, гораздо болѣе
лютый, чѣмъ въ совѣтской республикѣ… Готовятъ шашлыкъ и не
боятся никого и ничего. И какъ свободно обо всемъ говорятъ!.. Точно у себя дома…
Что же это свобода, или свобода тамѣ, откуда она уѣхала?…
И вдругъ стала тишина. Разговоры смолкли. Ночь
колдовала и красивые несла сны. Слова казались пошлыми. Красные уголья
покрылись сѣрымъ пепломъ. Было темно. Нордековъ, онъ таки и выпилъ подъ
баранину и послѣ баранины немало, уже не разбиралъ, кто былъ противъ него…
Какiе то американцы… Солдаты… Солдаты — въ это понятiе, такъ много вкладывалъ
онъ совсѣмъ особаго чувства. Солдаты это были тѣ, кто только и могъ
освободить Россiю и создать въ ней такую же прекрасную жизнь, какая была
сейчасъ здѣсь, въ этомъ таинственномъ саду, совсѣмъ не походившемъ
на крошечный палисадничекъ виллы «Les Coccinelles». Дивныя видѣнiя
вставали въ его памяти… Сотни биваковъ у костра, тысячи людей такъ имъ любимыхъ
и дорогихъ, его солдатъ и офицеровъ.. «Да это все вѣдь и сидятъ офицеры»,
— думалъ онъ и всю силу любви вкладывалъ въ это слово.
И въ этой тишинѣ сама собою родилась
пѣсня.
Кто запѣлъ ее, — Нордековъ не
замѣтилъ. Кажется, это Амарантовъ, сидѣвшiй между Ферфаксовымъ и
Михако завелъ ее такимъ нѣжнымъ теноромъ, какого нельзя даже было и
ожидать отъ такого крупнаго и рослаго человѣка.
— На берегъ Дона и Кубани
Мы всѣ стекались, какъ одинъ…
И точно вздохнуло нѣсколько голосовъ,
повторяя:
…Какъ одинъ…
И еще нѣжнѣе, точно самую душу
раздвигая и входя въ святое святыхъ ея, сладкiй теноръ продолжалъ:
— Святой могилѣ поклонялись
Гдѣ вѣчнымъ сномъ спитъ Калединъ…
Чуть слышно вздохнулъ хоръ:
— … Калединъ…
XVIII.
Пѣсня слѣдовала за пѣсней.
Изъ сосѣднихъ палисадниковъ заглядывали французы. Слышались апплодисменты
и сдержанные крики браво. Нифонтъ Ивановичъ съ заплаканнымъ лицомъ трясущимися
руками наливалъ вино въ протягиваемые ему стаканы.
И въ самый разгаръ этого колдовскаго сна,
когда настоящее совсѣмъ растворилось въ прошломъ и, казалось, что будетъ
и будущее, съ каменнаго крыльца спустилась Неонила Львовна съ большою корзиною
въ рукахъ. За нею шла точно сконфуженная, виноватая въ чемъ то Топси.
«Мамочка» рѣшительными шагами подошла къ
полковнику и, протягивая ему корзину, сказала:
— Уже первый часъ, Георгiй Димитрiевичъ, завтрашнiй
день. наступилъ. Какъ хотите, а ихъ надо убрать. Хозяинъ три раза вчера
присылалъ — чтобы до
свѣта никакихъ собакъ у насъ не было,
иначе… сами понимаете?
Въ корзинѣ, тѣсно прижавшись другъ
къ дружкѣ, лежало шесть маленькихъ клубочковъ шелковистой шерсти. Изъ
отворенной на виллу двери на нихъ лился свѣтъ, и они мигали черными
изюминками глазъ и испуганно озирались на обступившихъ ихъ людей.
— Боже, какая прелесть, — воскликнула Лидiя
Петровна. — Посмотрите-ка на этого съ бѣлой мордочкой!
— Ихъ написать великолѣпно… и въ этомъ
освѣщенiи… — сказалъ Дружко.
— Тоже, поди, жить и имъ хочется, — сказалъ
Парчевскiй.
— Еще и какъ, — груднымъ задушевнымъ голосомъ
протянула Лидiя Петровна.
— Вы слышали… Ихъ приказано прикончить до
свѣта, — сказалъ Нордековъ. — Викторъ Павловичъ, ты силачъ и герой…
Помнишь, какъ въ Крыму ты съ бронепоѣздомъ цѣлую дивизiю красныхъ
держалъ… И потомъ доплылъ до англiйскихъ кораблей. Ну-ка помоги намъ спровадить
ихъ на тотъ свѣтъ…
— Идѣже нѣсть болѣзни, ни
печали, ни воздыханiя, — басомъ провозгласилъ Ферфаксовъ.
— Ну вотъ еще, — сказалъ Амарантовъ, —
шестьдесятъ большевиковъ хоть сейчасъ своими руками задушу. А этихъ шестерыхъ…
За что лишать ихъ жизни,
которую имъ послалъ Господь?
— Это, какъ дитё убить, чисто какъ дитё, —
вставилъ слово Нифонтъ Ивановичъ.
— Но какъ то порѣшить ихъ надо, —
нерѣшительно заговорилъ Нордековъ. — Таковъ французскiй законъ… Собакъ не
дозволяется… Задушить ли, камнями ли побить, въ водѣ ли утопить, а
угробить какъ то надо? Чтобы не дышали… А ни-ни!… Нельзя… II faut… Pas possible.
Et alorsL.
— Hy да, — сказалъ Ферфаксовъ, — законы на то и
пищутся, чтобы ихъ обходить.
— Ну только не французскiе, — сказалъ
Парчевскiй, — это Русскiе Императорскiе законы мы всегда стремились обходить и
вотъ и дообходились, что вотъ куда зашли… Гдѣ, хочешь не хочешь, а
исполняй законъ.
— Анеля, возьмемъ одного… Совсѣмъ какъ
мой Берданъ будетъ. Помнишь?
— Вѣте паньство!… Сказали тоже!… А что консьержка
скажетъ?… Какъ намъ такого звѣря держать на шестомъ этажѣ въ
мансардѣ.
— Стасику была бы игрушка…
— Вамъ все игрушки, а мнѣ разорваться,
прибирая за вами.
— Да я возить его съ собою буду. Знаете,
господа, у одного офицера, шоффера, какъ и я есть собака «вольфъ». Такъ она
всегда подлѣ него у руля сидитъ. И такъ онъ ее, симпатягу, заучилъ, что, если
клiентъ мало даетъ на чай, онъ ее незамѣтно толкнетъ, а та высунется въ
окошко да на клiента «ррр», зарычитъ… Мало, молъ, даешь… А если клiентъ
разщедрится, онъ ей скажетъ: — «dis merci a monsieur» и его «вольфъ» — правую
лапу къ уху — честь, значитъ, отдаетъ!… Пасть откроетъ… Улыбается. Такая
славная умная собачушечка… Всѣ клiенты ее прямо обожаютъ… Вотъ и у меня
такъ же будетъ…
— Ну нечего, нечего, сказки разсказывать, —
сказала Анеля и потащила мужа отъ корзины со щенятами за рукавъ.
Неонила Львовна поставила корзину на землю и строго
сказала:
— Какъ хотите, а кончайте до свѣта. — И
пошла твердою поступью обратно на дачу.
— Нѣтъ, это и правда тяжело, — сказалъ
Нордековъ. — Подумайте, собака совсѣмъ безпомощна. Она вѣритъ
человѣку и такое предательство…
— А что, если, господа, китайцамъ свезти. На
кухню… Подлѣ Лiонскаго вокзала есть, говорятъ, такой ресторанъ… Тамъ
собакъ готовятъ… Все таки, какъ то лучше, чѣмъ такъ душить?… — предложилъ
Парчевскiй:
— Это надо, чтобы черные язычки у нихъ были, —
изъ угла отозвался Ферфаксовъ.
Корзина, подлѣ которой смущенная и
виноватая, все поглядывая на людей, вертѣлась Топси, разрушила колдовскiе
сны ночи и пѣсень. Парчевскiй отошелъ къ забору и мрачно курилъ. Мишель
Строговъ шептался у дома съ Леночкой. Дружко подходилъ къ щенятамъ то съ одной,
то съ другой стороны, щурилъ помутнѣвшiй глазъ, любовался ими, щелкалъ
языкомъ и говорилъ, ни къ кому не обращаясь:
— Ахъ ты, ну какiе право, аппетитные… А тона
то!… Масломъ ли, водою, или итальянскимъ карандашемъ ихъ хватить!… Карти-ина!…
Разговоръ не клеился. Амарантовъ началъ было вспоминать,
какъ первый разъ онъ встрѣтился съ Нордековымъ на войнѣ, но тотъ
слушалъ какъ то разсѣянно и, наконецъ, рукой махнулъ и сказалъ съ
отчаянiемъ:
— Ахъ, да не до того мнѣ теперь!
Ольга Сергѣевна сидѣла въ углу
палисадника съ Лидiей Петровной. Она смотрѣла на мужа, и злая улыбка
кривила ея губы. Недобрымъ огнемъ загорались ея глаза. Презрѣнiе было въ
нихъ.
Леночка вдругъ прошла къ самой корзинѣ.
— Ну что налюбовались, — съ какимъ то вызовомъ
сказала она и взялась за ручки корзины.
Всѣ разступились передъ нею. Она подняла
корзину и унесла ее обратно на дачу.
И какъ только унесли эту корзину, всѣмъ
стало легче. Парчевскiй съ силой бросилъ папиросу и сказалъ ни къ кому не
обращаясь:
— Эхъ, жаль, пьянино нѣтъ… Часъ то
такой, что самое время подъ пьянино цыганщину пѣть.
— А на столѣ чтобы недопитые стаканы
шампанскаго стояли, да на хрустальныхъ блюдечкахъ каленый миндаль съ крупною
солью, — оживляясь, сказалъ Дружко. — Вотъ оно какъ, Михако, у насъ бывало въ
старые то годы.
— И блѣдный свѣтъ утра…
Разсвѣтъ зарождается, — продолжалъ вспоминать Парчевскiй. — Трубачи
устали забавлять господъ и пошли пиво пить съ французскими булками и колбасой.
— Эхъ и колбаса, братцы, была, — воскликнулъ,
окончательно прогнавшiй мысли о приговоренныхъ къ смерти щенятахъ Дружко. —
Вареная, съ саломъ и чеснокомъ… На зубахъ, ажъ хруститъ…
— И позовемъ мы пѣсенниковъ. Вотъ, когда
шло слiянiе съ народомъ… Четвертная водки… Пьяныя мокрыя уста… Поемъ
вмѣстѣ и пьемъ вмѣстѣ. Дружко, ты помнишь, у васъ въ
полку былъ запѣвало Кареловъ?
— А что!… Да Викторъ Павловичъ нѣшто ему
уступитъ? Чѣмъ мы сами то не пѣсенники?
— Такъ что же? — нѣтъ солдатъ — мы сами
солдаты… Нѣтъ пѣсенниковъ — мы за нихъ…
— Нѣтъ Россiи, — тихо и зло сказала съ
крыльца Ольга Сергѣевна.
— Мы и сами Россiя, — весело и пьяно
отвѣтилъ ей Дружко. — He пропадетъ, поди, она. Куда ей дѣваться?
Запѣвайте, Викторъ Павловичъ…
XIX.
Никто не замѣтилъ, какъ снова вошла въ
палисадникъ Леночка. Она принесла что то круглое, плотно укутанное подушками и
пледомъ, какой то низкiй стулъ и крѣпко усѣлась на немъ, поднявъ
высоко колѣни. Подлѣ нея стала, повиливая хвостомъ словно печальная
Топси. Леночка сидѣла и слушала пѣсни, опустивъ лицо на ладони и
облокотившись о колѣни. Ея лицо было задумчиво и строго.
— Молись, кунакъ, въ странѣ чужой,
Молись, кунакъ, за край родной,
Молись о тѣхъ кто сердцу милъ
Чтобы Господь ихъ сохранилъ,
лилась къ самому небу пѣсня.
Французы сосѣди давно полегли спать. Съ
сосѣдней дачи присылали сказать, нельзя ли потише, нельзя ли перестать
пѣть. Никто и вниманiя не обратилъ на
посланца.
— У насъ въ Медонѣ никогда бы не
посмѣли такъ нахальничать, — сказалъ Парчевскiй.
— Стоитъ ли стѣсняться въ своемъ
отечествѣ, — сказалъ Дружко. Онъ, чтобы звончѣе пѣть зажималъ
себѣ горло подъ кадыкомъ.
— Пускай теперь мы лишены
Родной страны, родной семьи,
Но вѣримъ мы: — настанетъ часъ
И солнца лучъ блеснетъ для насъ…
Послѣднiй поѣздъ на Парижъ давно
прогудѣлъ невдалекѣ.
— Что жъ, господа, до перваго метро, —
предложилъ Дружко.
— Конечно… Конечно, — сказала Ольга
Сергѣевна. Въ ея голосѣ звучали усталость и раздраженiе, но никто
не обратилъ на это вниманiя.
— Предложенiе принято единогласно, — сказалъ
Нордековъ.
Снова запѣли.
Свѣтало. На лиловыхъ кистяхъ сирени
свинцовымъ налетомъ легла роса. Воздухъ былъ чистъ и свѣжъ. Вдали
розовѣлъ востокъ. Золотые лучи тамъ играли. На верху небо съ каждымъ
мигомъ становилось голубѣе. Надъ Парижемъ дымными языками клубился туманъ.
Съ Сены, должно быть съ моторной баржи, неслись рѣзкiе звуки трубы.
Всѣ устали, притихли, какъ то
осоловѣли.
Леночка поднялась съ своего низкаго
сидѣнья. Ея лицо было блѣдно. Глаза горѣли суровымъ огнемъ.
Брови были нахмурены. Что то мужественное было въ ея прекрасныхъ глазахъ. Она
казалась худѣе и стройнѣе въ блѣдномъ свѣтѣ утра.
— Ну вотъ и готово, — сказала она.
Никто ее не понялъ. Непонятная тревога
охватила Ольгу Сергѣевну.
— Что готово?… — спросила она.
— Собачки ваши.
— Что такое вы сдѣлали съ собачками? —
грозно подступая къ Леночкѣ, сказалъ Нордековъ.
— А вотъ, сами смотрите.
Леночка подняла подушки и пледъ, на которыхъ
сидѣла. Подъ ними оказалась корзина. Въ ней неподвижными, жалкими, точно
сморщенными комочками лежали щенята. Леночка взяла корзину за край и вытряхнула
ихъ на землю.
Первый лучъ солнца упалъ на нихъ. Съ жалобнымъ
повизгиванiемъ, плача, крутилась подлѣ нихъ Топси. Она точно жаловалась
кому то на людскую жестокость и несправедливость.
— Леночка, да что же это значитъ?.. Какъ ты
могла только, — съ нечеловѣческимъ страданiемъ въ голосѣ крикнула
Ольга Сергѣевна.
— Да вѣдь вы хотѣли
отдѣлаться отъ нихъ… Ну, я и рѣшила вамъ помочь. Закутала ихъ
чѣмъ могла поплотнѣе, чтобы имъ никакъ дышать было невозможно…
Сѣла… Сижу.. Слышу, чуть пищатъ… Возятся… Тоже и имъ, значитъ, умирать не
сладко… Ну а потомъ затихли… Вы и про кунака пропѣть не успѣли, а
они уже готовы. Жмуриками стали… Теперь только закопать и вся
недолга. Развязала я васъ.
— Дѣйствительно… развязала, — со слезами
въ голосѣ воскликнула Ольга Сергѣевна.
Напряженное молчанiе было въ
палисадникѣ. Всѣ толпились подлѣ щенятъ. Дружко даже снялъ
шляпу; Никто не поднималъ глазъ на Леночку. У всѣхъ была одна мрачная,
больная, страшная и острая мысль: — «совдепка»…
— Мнѣ въ глаза Топси будетъ стыдно
смотрѣть, — тихо сказалъ полковникъ.
Никто ничего не возразилъ. Головы опустились
ниже. Изъ толпы этихъ пожилыхъ, потрепанныхъ жизнью, видавшихъ всякiе виды
людей, отдѣлился Мишель Строговъ. Онъ твердыми шагами подошелъ къ
Леночкѣ и, протягивая ей руку, сурово сказалъ:
— Я уважаю васъ, Леночка. Вы настоящiй человѣкъ…
Его слова точно вывели всѣхъ изъ вдругъ
охватившаго ихъ столбняка. Всѣ засуетились и стали прощаться съ
хозяевами, точно торопясь уйти отъ того мѣста,
гдѣ лежали мертвые щенята. — Милая, это
ужасно, — протягивая руку и цѣлуя
въ щеку Ольгу Сергѣевну, говорила
Парчевская. — Въ четвергъ въ половинѣ девятаго на спѣвку.
— Славнечко провели время, — зѣвая
говорилъ Дружко. — Только вотъ это самое ужасно, какъ мнѣ не понравилось.
Какая, однако, жестокость и хладнокровiе…
— Факсъ, ты въ гаражъ?
— Нѣтъ. Я больше не работаю на такси. Въ
бюро предупредилъ, что не буду. Посплю до полудня.
— Господа, дойдемъ пѣшкомъ до подземки.
He стоитъ поѣзда ждать. Утро такое прекрасное.
— Да послѣ всего этого надо все-таки
подышать свѣжимъ воздухомъ.
И кто то негромко, но четко сказалъ: —
совдепка!
Ольга Сергѣевна и полковникъ провожали
гостей до калитки. Нифонтъ Ивановичъ на томъ мѣстѣ, гдѣ
жарили шашлыкъ тяжелой, садовой лопатой рылъ могилу для щенковъ. Топси все
продолжала жалобно скулить.
Въ воротахъ Ольга Сергѣевна еще разъ
поцѣловалась съ Парчевской. Мужчины и Анеля, громко разговаривая,
спускались по каштановой аллеѣ на рыночную площадь.
Ольга Сергѣевна показала Лидiи
Петровнѣ рукой на уходящихъ.
— Видали, — сказала она. — Это же ужасно… Божiи
коровки какiя то!…
— Но, милая, вы слишкомъ строги… Они же такъ много
пережили.
— Тѣмъ болѣе… И кто же…
Дѣвушка!… Оттуда!!…
— Послушайте, милая… Ихъ всѣхъ, и ее,
надо понять и простить…
— Ахъ, не могу больше ни понимать ни прощать…
— Лида, — крикнулъ изъ толпы Парчевскiй. — Что
же ты? Идемъ.
Въ толпѣ зарождалась въ полголоса
запѣтая пѣсня:
— Смѣло пойдемъ мы
За Русь святую…
XX.
Еще во время вечеринки Ферфаксовъ улучилъ минуту
и, отведя Нордекова въ сторону, сказалъ ему:
— Вы Ранцева знаете?
— Такъ не знакомъ, а слыхалъ. Онъ
предсѣдатель Марiенбургскаго полкового объединенiя. Мы съ нимъ контактъ
держимъ.
— Удивительнѣйшiй по нашему времени человѣкъ…
Рыцарь… Честность и офицерскiй долгъ… Такъ вотъ этотъ Ранцевъ мнѣ
говорилъ: — сюда изъ Чехо-словакiи прiѣхалъ нѣкто Стасскiй. Въ прошломъ
едва ли не революцiонеръ… Антимилитаристъ… Ну, да Ранцевъ, я васъ съ нимъ
познакомлю, — вамъ все про него разскажетъ. Стасскiй считался когда то первымъ
умомъ въ Россiи… Теперь глубокiй старикъ. Въ будущую субботу онъ читаетъ здѣсь
лекцiю о томъ, что происходитъ въ Россiи… Пойдемте… Входъ свободный. Три франка
на покрытiе расходовъ.
— Непремѣнно.
Это было слабостью Нордекова и Ферфаксова: —
набираться чужого ума, ходить по лекцiямъ и докладамъ, которые бывали въ
тѣ времена въ Парижѣ почти каждый день.
Нордековъ давно, еще въ годы своей
Петербургской службы, слыхалъ о Стасскомъ. Теперь о немъ шумѣли
эмигрантскiя газеты. Отъ него ожидали глубокаго профессорскаго, академическаго
анализа сущности совѣтской власти. Ожидали откровенiя, пророчества.
Ранцевъ, встрѣченный Нордековымъ у входа
въ залъ, на вопросъ, зналъ ли онъ лично Стасскаго, отвѣтилъ:
— Я его, можно сказать, совсѣмъ не знаю.
Одинъ разъ какъ то видѣлъ его на вечерѣ и слышалъ, какъ онъ
говоритъ. Ужасный человѣкъ. По настоящему ему тогда уже было мѣсто
гдѣ нибудь въ тюрьмѣ, или въ ссылкѣ, а еще того лучше въ
сумасшедшемъ домѣ, но, вы знаете, какъ было слабо наше правительство съ
такими господами. «Стасскiй первый умъ Россiи»… «Стасскiй другъ графа Льва
Николаевича Толстого», — какъ же такого сослать?… Съ нимъ нянчились… Его принимали
въ великосвѣтскихъ салонахъ… Онъ проповѣдывалъ самый крайнiй
анархизмъ и антимилитаризмъ. Потомъ, говорятъ, раскаялся и перемѣнился.
Умъ ѣдкiй и оригинальный. Ему приписываютъ формулу: — «ни Ленинъ, ни
Колчакъ». Мнѣ разсказывали, что въ Крыму онъ бывалъ у генерала Врангеля,
помогалъ ему своимъ вѣсомъ въ общественныхъ кругахъ, своимъ умомъ и
богатыми знанiями. Въ Добровольческой армiи его даже будто полюбили, и онъ самъ
измѣнилъ свой взглядъ на «военщину», какъ онъ насъ называлъ… Онъ безъ
копѣйки очутился заграницей, но у него вездѣ старые друзья. Онъ
близокъ ко многимъ главамъ нынѣшнихъ правительствъ. Когда то съ ними
разрушалъ Императорскую Россiю… Ему помогаютъ… Для него безкорыстно работаетъ
наша молодежь… У него друзья и тамъ… Въ Россiи… Ея мучители — его бывшiе прiятели…
Я думаю, онъ многое знаетъ, чего мы не знаемъ.
— Потому то вы и пришли… Я никогда раньше не
видалъ васъ ни на какихъ докладахъ.
Какая то тѣнь пробѣжала по лицу Ранцева.
Онъ точно нехотя отвѣтилъ:
— Отчасти и потому.
— Да, какъ можно не быть на такомъ
докладѣ, —
воскликнулъ Ферфаксовъ. — Вы посмотрите весь
эмигрантскiй Парижъ собрался сюда. Какой съѣздъ !… Этотъ докладъ событiе
въ нашей бѣженской жизни.
У нихъ мѣста были на хорахъ. Оттуда все
было отлично видно. Залъ былъ небольшой, но помѣстительный. На невысокой
эстрадѣ стоялъ, какъ полагается, длинный столъ, накрытый зеленымъ
сукномъ, для президiума. На немъ лежали листы бѣлой бумаги, стоялъ графинъ
со ржавой водой и стаканъ для оратора. Точно тутъ ожидался судъ. Кого будутъ
судить на немъ: — Россiю, или эмиграцiю?..
Подъ гомонъ голосовъ и стукъ шаговъ залъ
быстро наполнялся. Въ переднихъ рядахъ усаживались старые генералы. Они, какъ и
всѣ, были въ скромныхъ пиджакахъ. Кое кто изъ чиновъ постарше
надѣлъ сюртукъ ласточкой, или потертый «оффицiальный» смокингъ.
На краю перваго ряда въ длинномъ черномъ
сюртукѣ сѣлъ красивый старикъ Ѳедоровъ, другъ учащейся
молодежи, взявшiй на себя тяжелую и неблагодарную работу стучать въ черствыя
людскiя сердца и заставлять людей открывать тяжелые, набитые и легкiе скудные
кошельки, чтобы помогать Русской молодежи, жаждущей знанiй. Его лицо,
обрамленное сѣдою бородой было скорбно и устало. He легокъ былъ взятый
имъ на себя крестъ помощи ближнему. Годъ отъ года оскудѣвала рука
дающаго, и сколько было нужно силы воли, характера, изобрѣтательности и
любви къ учащейся молодежи, чтобы добывать средства! Новая нива росла,
поднималась и требовала помощи. Полчища молодежи Русской устремлялись въ
университеты и политехникумы, и кто имъ поможетъ?
Рядомъ съ нимъ сѣлъ, рѣзко
выдѣляясь на фонѣ штатскихъ костюмовъ своей черной черкеской съ
бѣлыми гозырями, генералъ Баратовъ, предсѣдатель союза инвалидовъ.
Одинъ просилъ для будущаго Россiи, другой просилъ поддержать тѣхъ, кто до
конца исполнилъ свой долгъ передъ Родиной и, проливъ за нее кровь, сталъ
инвалидомъ. Баратовъ медленно вытянулъ раненую ногу и положилъ вдоль нея черную
палку съ резиновымъ наконечникомъ. Онъ снялъ съ сѣдой головы большую
бѣлую папаху и, привѣтливо, ласково оглянувъ залъ, сталъ раскланиваться
со знакомыми, а знакомыми у него были всѣ слушатели.
Нордековъ, всѣхъ положительно знавшiй,
называлъ Ранцеву писателей: — 3. Н. Гиппiусъ, философа Д. С. Мережковскаго, М.
А. Алданова, чьими романами онъ зачитывался, И. С. Сургучева, С. Яблоновскаго…
представителей партiй и политическихъ группировокъ. А. Н. Крупенскiй по
странной случайности оказался рядомъ съ П. Н. Милюковымъ, а подлѣ молодого
и задорнаго Каземъ-Бека усѣлся старый Зензиновъ.
На лекцiю пришли Великiе Князья, и была одна
Великая Княгиня, давнишнiй кумиръ Ранцева и Нордекова. Въ шелковыхъ рясахъ и въ
строгихъ черныхъ пиджакахъ были и духовныя особы обѣихъ расколовшихся
церквей.
Стасскiй, всю свою жизнь всѣхъ
разъединявшiй, теперь объединилъ своею интересною лекцiей людей самыхъ
различныхъ направленiй.
Залъ своимъ видомъ, не блестящимъ —
нѣтъ, онъ былъ тусклъ и не наряденъ костюмами, но онъ блисталъ именами,
каждое войдетъ со временемъ въ исторiю, — одни, какъ разрушители Императорской
Россiи, другiе, какъ смѣлые и неутомимые борцы за великую Россiю,
создатели Добровольческой армiи и всего «бѣлаго» движенiя, — показывалъ,
что тутъ былъ весь Русскiй Парижъ.
Не мало было и иностранцевъ.
Рядомъ съ Нордековымъ высокiй красивый французъ
по старинному съ длинной и узкой сѣдой бородкой говорилъ сопровождавшему
его Русскому. Нордековъ невольно прислушался къ его словамъ.
— L'Europe est promise au plus douloureux avenir. Elle refuse de s'en rendre compte.
C'est une aveugle volontaire. Qui pourrait lui dessiller les yeux? La presse
ne peut
plus remplir le rôle pour qui elle avait été naguѐre créée.
Les juifs ont magnifiquement travaillé. Contre leur puissance et leur
action, nous sommes totalement désarmés. Dans notre sphѐre
individuellement, nous tenons de formuler la vérité. Mais nous
sommes considérés comme des prophêtes de mauvaise augure.
Vous savez que le peuple n'aime pas à entendre la vérité. Les
mensonges flattent son desir de sécurité.
J'adore les
mensonges.
— Сейчасъ вы услышите правду, — отвѣчалъ
ему по французски Русскiй.
— А… Правду! — съ большой горячностью сказалъ
французъ. — Какъ хотите вы бороться противъ громадной еврейской организацiи?
Она вездѣ. Е11е tient tous les carrefours.
Къ власти она пускаетъ только своихъ, «услужающихъ», или убѣжденныхъ къ
повиновенiю, или купленныхъ… Мы побѣждены, даже и не понимая того, что мы
не боролись… Послушаемъ, что намъ скажетъ вашъ Illustre.
Вы мнѣ будете переводить.
— Съ особымъ удовольствiемъ.
Президiумъ, и опять все имена, знаменитости,
крупнѣйшiя величины лѣваго и праваго лагерей — занялъ свои
мѣста за столомъ. Портьера позади стола распахнулась. Залъ разразился
громомъ рукоплесканiй. Многiе встали. Рядомъ съ Нордековымъ какой то совершенно
лысый человѣкъ неистово хлопалъ въ ладоши, весь перегнувшись за перила
хоровъ. Изъ за эстрады къ столу подошелъ Стасскiй.
XXI.
Онъ былъ очень старъ и, видимо, слабъ. На
немъ, какъ на вѣшалкѣ, висѣлъ длинный, черный„ старомодный
сюртукъ. Въ толпѣ кто то сказалъ — «народовольческiй». И точно: — отъ
костюма Стасскаго повѣяло шестидесятыми годами.
Совершенно лысый черепъ былъ цвѣта
слоновой кости. Сивые волосы рѣдкими прядями обрамляли только шею и
спускались косицами на воротникъ. Сморщенное, бѣлое, какъ у покойника,
лицо было покрыто сѣтью частыхъ мелкихъ морщинъ. Жиденькая бородка
торчала ядовитымъ клинушкомъ… Руки у него были длинныя съ узловатыми тонкими
пальцами. Оыъ походилъ на хищную птицу.
— Настоящiй кондоръ — орелъ стервятникъ, —
прошепталъ на ухо Нордекову Ферфаксовъ. — Если бы вечеромъ увидалъ такого въ
горахъ, — пристрѣлилъ бы его за милую душу.
Стасскiй поклонился, легкимъ наклономъ головы
отвѣчая на сдѣланную ему овацiю, и оперся обѣими руками о
край стола.
Апплодисменты стихли. Стала
напряженнѣйшая тишина. Стасскiй не торопился начинать. Нордекову
показалось, что онъ такъ старъ и слабъ, что не въ силахъ будетъ говорить.
Но голосъ Стасскаго раздался, и
дѣйствительно, совершенно отвѣчая его наружности, онъ походилъ на
орлиный клекотъ.
Стасскiй бросалъ отрывистыя, безсвязныя фразы,
какъ всѣ Русскiе ученые злоупотребляя иностранными словами. Первое
впечатлѣнiе было — большое разочарованiе.
— Да онъ совсѣмъ не ораторъ!…
Но Стасскiй зналъ, что дѣлалъ. Онъ
бросалъ свои отрывистыя мысли, какъ скульпторъ бросаетъ глину на болванку.. Онъ
лѣпилъ ихъ безобразными комками, едва давая очертанiя того лица, какое
онъ хотѣлъ вылѣпить. И сейчасъ же онъ принимался эти наспѣхъ
безсвязно брошенныя мысли дополнять, разъяснять, передѣлывать,
опровергать, измѣнять и вдругъ, и совершенно неожиданно для слушателя, мысль
Стасскаго вставала необыкновенно ясная и выпуклая.
— Репродукцiя… Воспроизведенiе… Я бы сказалъ —
отображенiе… того, что происходитъ сейчасъ въ Россiи… Это… Депрессiя… Какая то
подавленность съ одной стороны… Полная толерантность массъ… И
вмѣстѣ съ тѣмъ неостывающiй, вулканическiй какой то, революцiонный
пафосъ… Кипѣнiе толпъ… Массовая психологiя… Митинги и образованiе
совсѣмъ своеобразной демократiи, общественности въ тѣхъ слояхъ
общества, гдѣ и самаго этого слова не понимали.
Нѣтъ, онъ совсѣмъ не былъ старъ. И
кто бы сказалъ, что ему за восемьдесятъ!… Душа его горѣла молодымъ
огнемъ. Тѣло точно торопилось передать человѣческимъ языкомъ все
то, что накипѣло въ его душѣ. Этотъ человѣкъ, казалось,
понималъ и видѣлъ нѣчто скрытое отъ другихъ и спѣшилъ разсказать
объ этомъ, пока онъ еще живъ, чтобы предупредить человѣчество о
надвигающейся катастрофѣ.
— Соцiализмъ проводится тамъ безповоротно… и
жестоко… И какой соцiализмъ! Соцiализмъ Беллами и Уэлса! Соцiализмъ
необузданныхъ романистовъ, данный въ руки дикарямъ… Притомъ шовинистическiй какой
то соцiализмъ… Олицетворенiе и оформленiе всѣхъ старыхъ лозунговъ. «Кто
не съ нами — тотъ противъ насъ»… Отсюда — чрезвычайки, неслыханный въ
мiрѣ терроръ… Ссылки, какихъ не знала Императорская Россiя… Каторжныя
работы… Рабство… Но соцiализмъ — это то, на что молились… Это религiя массъ…
Если страна совѣтовъ со всѣмъ тѣмъ уродлива и страшна —
значитъ уродливъ и страшенъ и самъ соцiализмъ. Кто, однако, посмѣетъ
сказать это? Вотъ откуда эта всеобщая, вопреки здравому смыслу, поддержка
совѣтовъ… Это поддержка соцiалистами соцiалистическаго правительства… А
во вторую четверть двадцатаго вѣка, гдѣ не сидятъ въ Европѣ…
Что въ Европѣ, во всемъ мiрѣ — соцiалисты? Кто же посмѣетъ
сказать: — «соцiализмъ — это глупость, соцiализмъ — это утопiя»… И — «свобода,
равенство и братство» тѣ самые лозунги, на которые болѣе вѣка
молились — это обманъ.. Если не можете этого сказать вы, свободные и въ
свободной странѣ находящiеся, какъ хотите вы, чтобы сказали это тамъ,
гдѣ за одну такую мысль разстрѣливаютъ, казнятъ, пытаютъ и
замучиваютъ… Поймите, какая же это сила!… Они… Ихъ режимъ… большевицкiй… Вотъ
кто то сказалъ — ихъ вѣра —
оправдана и поддержана всѣми… всѣмъ мiромъ… Ибо кто противъ нихъ —
тотъ противъ соцiализма…
Стасскiй сдѣлалъ маленькую паузу, отпилъ
воды и съ силою, какой нельзя было ожидать отъ него снова повторилъ:
— Кто осмѣлится пойти противъ
соцiализма?!… Въ немъ воспитаны наши отцы, наши дѣды… Мы сами выросли въ
преклоненiи передъ нимъ. И дѣтей своихъ мы воспитали въ вѣрѣ
въ соцiализмъ…
Съ большимъ искусствомъ Стасскiй сдѣлалъ
краткiй очеркъ развитiя соцiалистическаго ученiя въ Россiи и въ Европѣ.
— Мы боролись противъ собственности, —
говорилъ онъ теперь уже спокойно. — Прекрасное дѣло!… Мой другъ Левъ
Николаевичъ Толстой не могъ мириться съ тѣмъ, что у одного столько тысячъ
десятинъ, что онъ въ цѣлый день на лошади не можетъ объѣхать своего
имѣнiя, a y другого полторы десятины и громадная семья на шеѣ…
Басня о клочкѣ земли, куда некуда куренка выпустить, стала такъ избитой,
что я не стану вамъ повторять ее. Ну такъ вотъ — большевики совсѣмъ
упразднили собственность… Такъ вѣдь это же торжество соцiализма!.. И какъ
я скажу своимъ избирателямъ, рабочимъ, въ огромномъ своемъ большинствѣ
соцiалистамъ и соцiалистамъ тупымъ, что я иду противъ совѣтовъ?…
Невозможно!… Тамъ въ Россiи, какъ въ странѣ неофитовъ энтузiазмъ массъ…
— Тамъ нищета и голодъ, — крикнулъ кто то изъ
заднихъ рядовъ.
— Тамъ — небывалый подъемъ, пафосъ и
энтузiазмъ массъ, — упрямо повторилъ Стасскiй. — Тамъ «пятилѣтка»…
«Погодите», — говорятъ тамъ голодному… Да, не отрицаю: — голодному,
оборванному, отрепанному, босому нищему обывателю, — «погодите, пройдетъ еще
три, два, одинъ годъ и все у васъ будетъ… Наступитъ рай на землѣ… Эта
легенда о раѣ, какъ ни уничтожаютъ религiю въ человѣческихъ умахъ,
лежитъ въ нихъ прочно… Этого рая ждутъ и въ этотъ рай вѣрятъ… А когда что нибудь уже очень не удается… Вредители!…
Показательные процессы всевозможныхъ «спецовъ», инженеровъ, агрономовъ,
техниковъ… Это мiровой капиталъ мѣщаетъ народу… Ну и вотъ: — распни ихъ — вредителей!
— Пятилѣтка имъ никогда не удастся —
крикнулъ кто то съ мѣста.
— Какъ можно говорить: — «не удастся» о томъ,
что уже удается. Другой, и совершенно праздный вопросъ — какою цѣной?…
Весь союзъ совѣтскихъ, соцiалистическихъ республикъ, вся прошлая
громадная Россiя, скажу банальное избитое слово: — шестая часть свѣта, со
ста сорока миллiонами населенiя обращается въ громадную фабрику, производящую
все то, что нужно для человѣчества. Въ ней работаютъ — рабы. Нищiе, голодные,
боящiеся окрика своихъ мучителей и притомъ фанатически вѣрующiе, что они
проповѣдники новой свѣтлой религiи, религiи соцiализма… Это же
Египетъ какой то… Египетъ временъ фараоновъ!… Но Египетъ съ
усовершенствованкыми путями сообщенiя, съ радiо, съ аэропланами… Вотъ они
повсюду закупаютъ и заказываютъ коммерческiй тоннажъ. Это готовится такой
дампингъ, передъ которымъ не устоитъ никакое государство. Года черезъ два
заводы Форда подъ Нижнимъ Новгородомъ выпустятъ автомобили «Made in U.S.S.R.»
цѣною, здѣсь, въ Парижѣ 2000 франковъ. Кто можетъ съ этимъ
конкурировать?… Вы скажете: — «ихъ можно запретить… наложить такiя пошлины, что
они станутъ дороже здѣшнихъ»… Да не очень то запретите, когда самъ
пролетарiатъ, сами рабочiе, скажемъ, работающiе у того же Рено, или Ситроена,
кинутся покупать эту дешевку?.. Сами будутъ рубить сукъ, на которомъ сидятъ.
Сами будутъ загонять себя въ соцiалистическое рабство. А потомъ придутъ корабли
съ хлѣбомъ, со всевозможнымъ сырьемъ, съ лѣсомъ, добытыми въ громадныхъ
государственныхъ кол-хозахъ рабскимъ трудомъ и завалятъ всѣ рынки… Вотъ
недавно въ Бразилiи пришлось выкинуть нѣсколько тоннъ мѣшковъ съ
кофе, чтобы не подорвать цѣнъ на кофе… Еще гдѣ то по той же
причинѣ пшеницей топили паровозы… Совѣтскiй дампингъ затопитъ
всѣ рынки. Трудъ станетъ безцѣльнымъ. Государства станутъ передъ
дилеммой: — или заводите у себя такой же рабскiй трудъ, такую же скотскую
жизнь, стройте чрезвычайки, разстрѣливайте неповинующихся рабочихъ, или
становитесь въ полную зависимость отъ совѣтскаго союза и увеличивайте до
безконечности армiи безработныхъ. Въ Европѣ готовится самое ужасное
рабство и что примѣчательно: — сами будущiе рабы — рабочiе — куютъ
себѣ рабское ярмо. У соцiализма два пособника: — жадность и глупость и
оба они въ Европейскихъ демократiяхъ на лицо. Торжество соцiализма — обращенiе
нацiи въ безсловесную толпу, которой легко управлять… И правители найдутся…
Только будемъ ли мы тогда довольны своими правителями?…
Стасскiй кончилъ. Онъ сдѣлалъ чуть
замѣтное движенiе головой, нѣчто въ родѣ поклона и безсильно
опустился на стулъ. Воспламенившiйся было, въ старомъ тѣлѣ духъ
угасъ. Передъ толпою былъ старикъ, такъ странно похожiй на большую хищную
птицу. Теперь эта птица словно была мокрой и нахохлилась.
Слушатели были подавлены. Раздавшiеся, было,
жидкiе апплодисменты сейчасъ же и оборвались. Докладчикъ нарисовалъ такую
жуткую картину будущаго, что странно и дико было рукоплескать своей грядущей
гибели.
Нѣсколько мгновенiй въ залѣ стояла
тишина. Потомъ она стала прерываться отдѣльными возгласами.
— Если бы это говорилъ кто нибудь другой…
какой нибудь провокаторъ, прiѣзжiй изъ совѣтчины агентъ
чрезвычайки, а то — Стасскiй… Стасскiй!…
— Первый умъ Россiи… Соцiалистъ въ прошломъ.
— Какой онъ тамъ соцiалистъ. Никогда ни въ
какой партiи не былъ. Типичный Русскiй анархистъ. Всегда и все отрицавшiй…
— Раньше отрицалъ Императорскую власть,
религiю, армiю, потому что они были въ силѣ. Теперь отрицаетъ соцiализмъ,
потому что настало его царство.
— Неужели и вы считаете, что совѣтскiй
коммунизмъ имѣетъ что нибудь общее съ соцiализмомъ? — Если не признать
этого, придется согласиться съ крайними правыми, считающими, что все это
еврейскiй заговоръ, а согласитесь, что это было слишкомъ простое рѣшенiе
вопроса въ духѣ «Сiонскихъ протоколовъ».
Залъ гудѣлъ голосами. Въ
Президiумѣ совѣщались. Оставить докладъ Стасскаго безъ возраженiй
было нельзя. Слишкомъ тяжкое впечатлѣнiе онъ произвелъ на слушателей. He
того ожидали отъ него устроители доклада.
Было рѣшено открыть пренiя по докладу.
Зазвонилъ колокольчикъ предсѣдателя.
— Слово предоставляется Ѳедору
Ѳедоровичу Разгонову.
На эстраду вошелъ старикъ съ длинными и
густыми, совершенно бѣлыми волосами, причесанными по старой
«профессорской» модѣ назадъ. Сѣдые усы и сѣдая
«интеллигентская» бородка красили его усталое, покрытое морщинами,
блѣдное лицо. Онъ поклонился публикѣ и началъ…
XXII.
— Господа! докладъ почтеннаго Владимiра
Васильевича — цѣлое откровенiе… Мы должны… Нашъ священный долгъ… довести
его въ цѣломъ… Во всемъ его объемѣ до свѣдѣнiя
иностранцевъ. Намъ дано видѣть — имъ не дано видѣть… И мы должны
имъ открыть глаза… Но, господа, отъ лица своей партiи… Я старый соцiалистъ
считаю своимъ долгомъ заявить, что то, что дѣлается въ Совдепiи отнюдь не
соцiализмъ. И въ этомъ глубокоуважаемый Владимiръ Васильевичъ жестоко ошибается
— никогда не соцiализмъ!… Соцiализмъ не рабство!.. Нѣтъ!… Тысячу разъ
кѣтъ!… He рабство и не обманъ!… Свобода, равенство и братство, какъ были,
такъ и останутся священными лозунгами…
Мы должны, господа, забыть всѣ наши
разногласiя, всѣ наши партiйные споры и объединиться… Придти къ полному
единенiю… Всѣ отъ крайняго лѣваго до праваго нашихъ фланговъ начать
рѣшительную борьбу словомъ съ большевиками, этими дѣйствительно
разрушителями великой Русской культуры, давшей намъ Пушкина…
— Э… завелъ волынку, слышали, — довольно
громко сказалъ кто то подлѣ Нордекова. — Теперь заговоритъ о митингахъ
протеста, о подписныхъ листахъ съ воззванiями къ международной совѣсти.
Надоѣло!…
И точно… Съ эстрады раздавалось:
— Мощные митинги протеста… Во всѣхъ городахъ
всего свѣта… Рѣчи лучшихъ ораторовъ. Просвѣщенныхъ умовъ…
Громкоговорители… Неослабно и неустанно будить народную совѣсть,
призывать къ бойкоту всего совѣтскаго, къ презрѣнiю ихъ
всѣми, разъяснять всю пагубность, всю несостоятельность совѣтской
системы…
— Они насъ шимозами,а мы ихъ молебнами, —
говорилъ, ни къ кому не обращаясь, сосѣдъ Нордекова.
— Это уже было разъ… Ничему мы не научились…
Они насъ изъ пулеметовъ… А мы иконы… Митинги, рѣчи, протесты… Придумайте,
господа, что нибудь новое и дѣйствительное.
И будто для подтвержденiя словъ говорившаго
рядомъ съ Нордековымъ, на эстрадѣ стараго профессора смѣнилъ
маленькiй щупленькiй человѣчекъ въ изящномъ смокингѣ, въ
лакированныхъ аккуратно завязанныхъ туфелькахъ, старый, но красивый барскою
изнѣженною красотою, съ блѣднымъ лицомъ и голубыми,
выцвѣтшими глазами.
— Слово предоставляется писателю Ивану
Максимовичу Леонардову.
Довольно дружные апплодисменты вспорхнули по залу.
— Господа, — сладкимъ, негромкимъ голосомъ
началъ писатель, — и то, что говорилъ Владимiръ Васильевичъ, и то, къ чему насъ
призывалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ взаимно одно другое дополняетъ и
разъясняетъ… Вы простите меня за нѣкоторую несвязность рѣчи… Тотъ,
кто хорошо пишетъ не всегда можетъ хорошо говорить… Поднятый вопросъ меня
необычайно волнуетъ. Оба почтенные оратора не коснулись главнаго, по моему
мнѣнiю, самаго существеннаго. Они говорили о матерiальной сторонѣ,
не касаясь стороны духовной.
Идетъ борьба Христа съ сатаной. И намъ надо
объединить свои души въ этой борьбѣ. «Едиными устами и единымъ сердцемъ»…
Я не говорю, что надо отказаться совсѣмъ отъ дѣйствiй… Отнюдь
нѣтъ… Но каждый изъ насъ понимаетъ, что всякая, такъ называемая
интервенцiя съ оружiемъ въ рукахъ совершенно исключается. Дѣйствiя
противъ большевиковъ выражаются не въ одномъ террорѣ, не въ бряцанiи
оружiемъ, а въ каждомъ нашемъ словѣ, движенiи, жестѣ, мысли,
проникнутыхъ дѣйствительностью, рождающей здоровую атмосферу и убивающей
охватившiй насъ маразмъ… Мы должны проникнуться извѣстнымъ мистическимъ
настроенiемъ вѣры, чтобы создать опредѣленные, такъ сказать, флюиды
борьбы… Важно, господа, не то, когда падутъ большевики, а важно то, что они
непремѣнно падутъ, что они должны пасть… Важно, что мы хотимъ, чтобы они пали и знаемъ и вѣримъ, что это такъ и будетъ…
Иными словами я васъ призываю къ вѣрѣ, что горами движетъ… Будемъ
всѣ вѣрить въ паденiе большевиковъ,
создадимъ атмосферу, насыщенную флюидами такой вѣры и этимъ своимъ
невидимымъ воздѣйствiемъ, мистическою своею вѣрою мы погубимъ ихъ
навѣрно и навсегда…
— Такъ вѣдь вѣра то безъ
дѣлъ мертва есть, — громко сказалъ сосѣдъ Нордекова. Онъ сильно
волновался рѣчами ораторовъ и близко принималъ къ сердцу то, что
говорилось съ эстрады.
Записалось еще нѣсколько ораторовъ,
желавшихъ возразить докладчику, но за недостаткомъ времени и приближенiемъ
рокового въ Парижѣ часа «послѣдняго метро» имъ было отказано, и
заключительное слово было предоставлено Стасскому.
Онъ говорилъ (…) его усталый и, видимо,
раздраженный. Ему точно казалось, что его не поняли, что не за*хотѣли
услышать то, что онъ говорилъ, можетъ быть, передъ смертью.
— Я сказалъ, господа, — слабымъ, но яснымъ и
далеко слышнымъ голосомъ говорилъ Стасскiй. — то, о чемъ я считалъ своимъ
долгомъ предупредить васъ. Извините, что я не пришелъ къ вамъ съ коробкой мармеладныхъ
конфетъ фабрики Лиги Нацiй… Я пришелъ къ вамъ, чтобы, какъ по радiо съ корабля
крикнуть на весь мiръ:—S.O.S.!! Спасите насъ!!! Эти слова, эти ужасныя слова
предсмертной муки, уже крикнулъ на весь мiръ въ 1920 г. писатель Леонидъ
Андреевъ, крикнулъ ихъ со своего сторожевого поста, изъ Финляндiи, откуда онъ
могъ наблюдать то, что дѣлается въ Россiи. Мiръ его не услышалъ. Пусть
сегодняшнее мое слово будетъ новымъ крикомъ, новымъ призывомъ къ странамъ, къ
народамъ всего мiра: — S.O.S.!!
Послѣднiя слова онъ сказалъ едва
слышнымъ голосомъ, потомъ съ неожиданною быстротою повернулся, и, согнувшись,
сгорбившись, вошелъ за портьеру и скрылся изъ зала.
Съ глухимъ говоромъ публика стала вставать и,
тѣсснясь въ проходахъ, выходить изъ помѣщенiя. Всѣ торопились.
Часъ послѣдняго метро наступалъ. Перспектива ожидать ночныхъ автобусовъ,
или сидѣть до утра никому не улыбалась. Россiи этимъ не спасешь, а
себѣ надѣлаешь непрiятностей. Расходились молчаливо въ мрачномъ
раздумьи о надвигающейся катастрофѣ, предотвратить которую, казалось не
было никакой возможности.
XXIII.
— Факсъ, — окликнулъ выходившаго изъ зала
Ферфаксова Ранцевъ. — Ты свободенъ?… Впрочемъ, напрасный вопросъ… Даже, если бы
ты былъ и тысячу разъ занятъ, ты должеиъ сдѣлать то, чгто я тебѣ
скажу.
Ферфаксовъ остановился передъ Ранцевымъ съ
видомъ собаки, слушающей своего господина.
— Посмотри на полковника Нордекова, — сказалъ
Ранцевъ, показывая на человѣка, закуривавшаго у фонаря. — Ты понимаешь,
его нельзя сейчасъ оставлять одного. Онъ дошелъ до точки. Онъ стоитъ надъ пропастью.
Мы должны его спасти и сдѣлать его своимъ. Слѣди за нимъ все время…
Переговори, когда найдешь это нужнымъ… Я его насквозь вижу. Проклятый Стасскiй!…
Развѣ можно говорить такъ слабымъ духомъ… А, между прочимъ я никогда не
ожидалъ, что будетъ день, когда и онъ прозрѣетъ.
За эти три часа, что продолжался докладъ и
пренiя, Нордековъ постарѣлъ на тридцать лѣтъ. Сгорбившись, поднявъ
плечи и опустивъ голову, онъ тщетно пытался раскурить на ночномъ вѣтру
папиросу. При свѣтѣ фонаря было видно его ставшее совсѣмъ
сѣрымъ лицо. Наконецъ, папироса пыхнула. Нордековъ пошелъ впереди Ранцева
и Ферфаксова. Походка его не была его обычной бравой и легкой поступью. Такъ,
какъ онъ шелъ сейчасъ — топиться ходятъ, или подходятъ къ эшафоту съ качающейся
надъ нимъ веревкой висѣлицы. Ферфаксовъ понялъ, что приказалъ ему Ранцевъ
и удивился проницательности своего бывшаго начальника.
«Впрочемъ», — подумалъ онъ, — «Ранцевъ, какъ офицеръ,
умѣетъ читать въ человѣческихъ сердцахъ и угадывать въ нихъ холодъ
смерти».
Онъ прошелъ за Нордековымъ къ спуску въ
подземную дорогу, онъ стоялъ съ нимъ на платформѣ въ ожиданiи
поѣзда, сѣлъ съ нимъ въ одинъ вагонъ — Нордековъ не видалъ его.
Сложная и тяжелая работа шла въ душѣ у
Нордекова. Докладъ Стасскаго точно открылъ ему глаза. Какъ все было безнадежно
и безотрадно!
«И все это говорилъ Стасскiй, первый умъ
Россiи!…
Какое общество собралось слушать его и какъ
слабы были возраженiя! Большевики побѣждаютъ и нѣтъ силы, могущей
противоборствовать ихъ побѣдѣ. Ужасно!… Всѣ мечты, все то,
чѣмъ онъ жилъ всѣ эти годы — только мечты… И не только дивизiи,
бригады, полка, но даже и батальона онъ никогда не увидитъ… Значитъ: —
вѣчно… До самой смерти — экспортная контора и возня съ тяжелыми ящиками,
писанiе накладныхъ и коносаментовъ и тѣсная, по совѣтски
уплотненная жизнь на виллѣ «Les Coccinelles».
Нордековъ тяжело вздохнулъ.
Онъ жилъ мечтами возвращенiя въ Россiю. Ему казалось,
что стоитъ вернуться въ Россiю — «домой» и все станетъ по старому. И жена его
будетъ опять той милой красивой Лелей, съ которой такъ дружно, весело и хорошо
жилось. Онъ, сидя въ душномъ вагонѣ электрической Парижской дороги,
мечталъ о Петербургѣ и о Красномъ Селѣ, гдѣ лучшiе прошли его
годы.
«Развѣ здѣсь такая весна?… Такъ
пахнетъ?… Наши бѣлыя березки съ еще клейкими листочками… Распускающiеся
молодые тополя въ садикахъ главнаго лагеря… Какой шелъ отъ нихъ свѣжiй
весеннiй духъ! Утромъ встанешь раненько на стрѣльбу, и уже слышенъ трескъ
винтовочныхъ выстрѣловъ на стрѣльбищѣ позади бараковъ… Раздается
частый топотъ казачьей сотни, идущей на ученье… Значитъ, никогда, никогда не увидитъ,
не услышитъ и всѣмъ бытiемъ своимъ не ощутитъ онъ бiенiя русской военной
жизни?… И все то, что они съ такою глубокою вѣрою и самоотверженiемъ
дѣлаютъ здѣсь — химера?… Фантазiя?… глупости?.. И правы не они съ
ихъ вождями, а Леля и «мамочка» съ ихъ тупымъ мѣщанскимъ матерiализмомъ.
Пора опускаться на дно… Напрасно тратить послѣднiе гроши на собиранiе по
кусочкамъ осколковъ былой полковой славы, на разыскиванiе старыхъ фотографiй и
гравюръ, на созданiе уголка полкового музея… Вздоръ… Безсмысленныя мечтанiя…
Призраки… Химеры… Ничего нѣтъ… Впереди — успѣхи совѣтской
«пятилѣтки», вторженiе новыхъ варваровъ, гибель христiанской культуры… И…
новое бѣгство что ли?… Куда?… He лучше ли, не благороднѣе ли уйти?…»
Нордековъ машинально, по годами установившейся
привычкѣ пересѣлъ на поѣздъ электрической дороги и мчался къ
себѣ. Ферфаксовъ неотступно слѣдовалъ за нимъ. Нордековъ его не
замѣчалъ. Изъ его зрѣнiя, изъ его наблюденiя выпали всѣ люди.
Окружающее онъ едва воспринималъ. Мозгъ его былъ сосредоточенъ на одной мысли о
себѣ. О безотрадности, безсмысленности и ненужности своего существованiя.
Какое то страшное рѣшенiе зрѣло въ его головѣ. Въ немъ
исчезалъ и растворялся весь внѣшнiй мiръ. Въ немъ призракомъ, чѣмъ
то несуществующимъ казался сидѣвшiй въ одномъ вагонѣ съ нимъ
человѣкъ съ бурымъ, будто знакомымъ лицомъ и глазами, сосредоточенно
устремленными на него.
Ферфаксовъ чувствовалъ, что ему предстоитъ
безсонная ночь. Это его не смущало. Это напоминало ему другiя, волшебныя, колдовскiя
ночи въ Маньчжурiи, когда такъ же слѣдилъ онъ за звѣремъ, за
медвѣдемъ, или за джейраномъ, все позабывъ, ночью крался по слѣду,
чтобы выцѣлить его на зарѣ и свалить мѣткимъ
выстрѣломъ. Онъ вдругъ вспомнилъ своего вѣрнаго охотничьяго пса
Бердана. Теперь онъ несъ такую же работу, какъ его Берданъ. Онъ вѣрно
такъ же чувствовалъ душевное состоянiе дичи, какъ онъ теперь точно читалъ въ
душѣ полковника Нордекова.
Полковникъ тихими, шатающимися, больными шагами
дошелъ до своего переулка, открылъ калитку и пошелъ вдоль дачъ. Ферфаксовъ
неслышною тѣнью слѣдовалъ за нимъ. Онъ прослѣдилъ, какъ
полковникъ вошелъ въ домъ, отомкнувъ дверь своимъ ключомъ, какъ, должно быть,
тихонько вошелъ въ спальню и зажегъ лампу. Окно ненадолго освѣтилось,
потомъ стало темнымъ. Ферфаксовъ все понималъ. Онъ точно видѣлъ
полковника сквозь стѣны. Полковникъ кончать съ собою будетъ…
Ферфаксову самоубiйство было непонятно. Оно
претило его православному пониманiю жизни. Оно не отвѣчало понятiю
вѣчнаго служенiя Родинѣ. Богъ далъ жизнь и только Онъ можетъ отнять
ее. Человѣкъ принадлежитъ Отечеству и никогда не знаетъ, когда его жизнь
потребуется Отечеству. Уйди изъ жизни — дезертирство.
Лекцiя Стасскаго не произвела особаго
впечатлѣнiя на Ферфаксова. Стасскiй, несомнѣнно, очень ученый
человѣкъ, кажется даже академикъ, но въ такихъ вопросахъ ученые то люди
чаще всего и ошибаются. Притомъ Ферфаксовъ былъ прiобщенъ къ нѣкоей
тайнѣ, и эта тайна говорила ему, что бороться за Россiю не только можно,
но что эта борьба уже идетъ.
Но, зная всю семейную обстановку жизни
полковника, Ферфаксовъ понималъ и Нордекова. Онъ понималъ, что полковнику уже
некуда податься. Онъ дошелъ до стѣны. И, стоя подъ окнами дома Нордекова,
Ферфаксовъ размышлялъ:
«Георгiй Димитрiевичъ дома съ собою ничего
дѣлать не будетъ. Давиться не станетъ — не офицерское это дѣло,
высунувъ языкъ на веревкѣ висѣть… Яду у него, сколько я знаю
нѣтъ. Да и при всѣхъ травиться — какая охота!… Стрѣляться въ
домѣ не будетъ… Онъ таки воспитанный человѣкъ и свою жену любитъ…
Сейчасъ вѣроятно написалъ записку и легъ… Думаетъ… Можетъ быть еще и
одумается…»
Ночь тихо шествовала. Ферфаксовъ любовался ею.
Парижъ затихалъ. Наконецъ настала торжествениая, такая рѣдкая здѣсь
тишина… Все успокоилось. Новые, не городскiе шумы тихо и осторожно вошли въ
ночь… Сталъ слышенъ шумъ молодой листвы. Гдѣ то далеко прокричала ночная
птица… Вѣтеръ разогналъ тучи. На небѣ узоромъ проглянули
звѣзды. Ферфаксовъ слѣдилъ за ними, какъ онѣ гасли одна за
другою. Небо сѣрѣло. Дремота стала охватывать Ферфаксова. Сквозь
нее онъ сталъ смутно слышать, какъ предъутренними шумами загудѣлъ Парижъ.
Гдѣ то заунывно и дико завыла фабричная сирена, призывая вторую ночную
смѣну.
Ферфаксовъ, стоя, спалъ и тяжело очнулся,
когда въ ставшiе уже привычными далекiе шумы вошелъ вдругъ совсѣмъ
близкiй короткiй стукъ двери. Ферфаксовъ открылъ глаза. Одно мгновенiе онъ не
могъ сообразить, гдѣ онъ и почему стоитъ въ глухомъ пустынномъ
переулкѣ. Но сейчасъ же съ охотничьею быстротою къ нему вернулась память.
Было еще темно, но уже чувствовалось приближенiе утра.
XXIV.
Полковникъ вышелъ изъ дома. Онъ прошмыгнулъ
мимо Ферфаксова и направился къ воротамъ. Ферфаксовъ тѣнью
послѣдовалъ за нимъ.
Фонари въ мѣстечкѣ были погашены.
Въ сумракѣ ночи покоились прямыя улицы. Полковникъ прошелъ черезъ
рыночную площадь и сталъ спускаться къ Сенѣ по широкой аллеѣ между
зацвѣтающихъ каштановъ. Онъ вышелъ на набережную и пошелъ вдоль
рѣки.
Нордековъ направлялся къ извѣстной ему
глыбѣ цемента, торчавшей на самомъ берегу надъ водою. Когда то тутъ
хотѣли строить что то, или, можетъ быть, везли и обронили большой кусокъ
цемента и онъ такъ и остался надъ водою. Это было излюбленное мѣсто
удилыциковъ. Мысль Нордекова работала съ поразительною ясностью и онъ вспомнилъ
объ этой глыбѣ: — «самое удобное мѣсто».
Нѣтъ ничего хуже, какъ не
дострѣлиться. Это удѣлъ мальчишекъ. He дострѣлиться — это
быть смѣшнымъ. Надо лѣчить — а гдѣ средства на это леченiе?…
Да и надо устроить такъ, чтобы и хоронить не пришлось. Хоронить тоже дорого. He
по бѣженскимъ средствамъ умирать. Полковникъ сядетъ на глыбу спиною къ
рѣкѣ. Отъ толчка, что будетъ при выстрѣлѣ, онъ
потеряетъ равновѣсiе и упадетъ въ воду. Тутъ достаточно глубоко. Теченiе
подхватитъ его тѣло. Если бы онъ не дострѣлился, раненый онъ
утонетъ. Тѣло его когда то найдутъ… Да и найдутъ ли?… Сколько гибнетъ
тутъ народа, и тѣла ихъ никогда не находятъ.
Полковникъ взобрался на глыбу и сѣлъ
лицомъ къ рѣкѣ. Разсвѣтъ наступалъ. Въ голубой дымкѣ
тонулъ противоположный берегъ. Онъ былъ въ садахъ. Вдоль рѣки шла широкая
аллея высокихъ старыхъ платановъ. За ними скрывались богатыя дачи. Рѣка
неслась гладкая, не поколебленная вѣтромъ. Изрѣдка плеснетъ у
берега большая рыба, сверкнетъ серебрянымъ блескомъ взволнованиой воды, и опять
ровная сѣрая простыня стелется мимо, и не видно, течетъ рѣка, или
стоитъ неподвижно, какъ длинная заводь. У цементнаго обрубка росла трава.
Далеко за Сенъ-Клу гудѣлъ и шумѣлъ проснувшiйся, неугомонный
городъ.
Свѣтало. Вдоль по рѣкѣ
потянуло прохладнымъ вѣтеркомъ. Чуть зарябило воду, но сейчасъ же она
успокоилась. Рѣка стала глубокой, холодной, зеленой и прозрачной, какъ
расплавленное бутылочное стекло.
«Хорошо… А жить нельзя… Какъ жить?…
Совсѣмъ и навсегда безъ Родины?… Какъ красиво это утро… И Сенъ-Клу,.. He
напрасно это мѣсто такъ любили и Наполеонъ и Императрица Евгенiя…
Императрица Евгенiя?… Прожить девяносто лѣтъ и только сорокъ изъ нихъ
быть счастливой!… Пережить позоръ сдачи въ
плѣнъ пруссакамъ мужа… Смерть въ англiйскихъ
войскахъ въ далекой колонiальной войнѣ въ Африкѣ сына, едва ли не
убитаго тѣми самыми англичанами, кому онъ предложилъ свою прекрасную
молодую жизнь… Она пережила все это… Скиталась на яхтѣ, жила на
чужбинѣ, отвергнутая Родиной. Пережила свою необычайную красоту, свою
любовь, свою гордость, счастье и все жила, ожидая, когда приберетъ ее Господь…
Вѣкъ другой… Сильнѣе что ли были тогда люди?.. Вѣрйли по
иному?.. Въ Сенъ-Клу былъ счастливъ съ Жозефиною Наполеонъ.. Тоже, сколько
пережилъ! Московское пораженiе, гибель армiи. Отреченiе отъ престола. Ватерлоо…
Святая Елена… А вотъ все жилъ… Катался верхомъ, гулялъ подъ надзоромъ
ненавистныхъ ему людей, а съ собою не кончилъ… Писалъ мемуары. Игралъ въ карты…
Говорятъ, любилъ кого то позднею любовью. Мучился отъ тяжкой болѣзни.
Совѣтовался съ докторами… Что же держало ихъ, былыхъ владѣльцевъ
Сенъ-Клу, на землѣ?… Вѣра?… Наполеонъ и не вѣрилъ… Я?… Какая
же у меня вѣра?… Привычка и больше ничего…
Воспоминанiя, вдругъ нахлынувшiя при
видѣ Сенъ-Клу отвлекали отъ главнаго… Если такъ думать, если это
вспоминать — зачѣмъ и кончать съ собою?… Но жить уже нельзя было.
Собственно говоря главное уже было сдѣлано. Записка написана. Онъ вышелъ
въ неурочное время изъ дома, онъ все сдѣлалъ. Остается лишь пустая, такъ
сказать, формальность: — засунуть револьверъ въ ротъ и нажать на спусковой
крючекъ. Медлилъ. Ему вспомнилась его Леля и сынъ Шура, не Мишель Строговъ, а
Шура, милый мальчикъ съ забавными вихрами на головѣ и съ дѣтскою
серьезностью.
Тяжкимъ усилiемъ воли все это прозналъ.
Зачѣмъ? Корабли сожжены и нѣтъ возврата… Онъ уже не самоубiйца, но
приговоренный къ смерти. Никто не можетъ помиловать его, или замѣнить
казнь каторжными работами. Да вѣдь каторжнѣе того, что онъ, и
всѣ они, дѣлаютъ, и не придумаешь, ибо безцѣльно,
безсмысленно, а, главное, — безконечно…
Если теперь это отмѣнить — ко всему
этому прибавится еще не дострѣлившiйся самоубiйца… Пора…
Полковникъ повернулся спиною къ
рѣкѣ. Все время искусно скрывавшiйся отъ него Ферфаксовъ съ
охотничьею ловкостью присѣлъ за кустами.
Полковникъ точно въ какомъ то раздумьи вынулъ изъ
кармана пальто револьверъ и взвелъ курокъ.
Онъ какъ бы ощутилъ вхожденiе холоднаго дула
въ ротъ, отвратительное прикосновенiе тяжелаго металла къ зубамъ, потомъ
толчекъ, мгновенную боль… А дальше?…
Не все ли равно?
Полковникъ приподнялъ руку съ револьверомъ,
усѣлся поудобнѣе, чуть откинулся назадъ… Онъ помнилъ, что ему надо
непремѣнно упасть въ воду…
+++
Bee, что было потомъ, показалось ему сномъ.
Такъ только во снѣ бываетъ: — вдругъ въ черноту небытiя точно какое то
окно откроется. И тамъ свѣтъ. Новая какая то жизнь. Невѣроятныя
приключенiя. Надолго ли? Такъ случилось и сейчасъ. To, что было — кончилось. He
стало виллы «Les Coccinelles», и не надо было ходить въ экспортную контору.
И потомъ, когда пошла и завертѣлась эта
новая, такъ непохожая на все прошлое жизнь, полковникъ часто думалъ, что не
покончилъ ли онъ тогда на берегу Сены съ собою и эта новая жизнь уже жизнь
потусторонняя? Такъ все въ ней было необычно.
XXV.
Крѣпкая, точно изъ стали выкованная
рука, мертвою, бульдожьею хваткою схватила руку полковника за запястье. Другая
рука быстро выхватила револьверъ изъ его руки и, взмахнувъ имъ, далеко бросила
въ рѣку.
Блеснула въ холодномъ зеленомъ стеклѣ ея
вспѣнившаяся серебромъ волна, тихо булькнула и все успокоилось.
Прямо противъ лица полковника было темное
лицо. Каштановые собачьи глаза съ спокойнымъ блескомъ смотрѣли въ глаза
полковника.
Полковникъ хотѣлъ возмутиться. Онъ
искалъ словъ, какiя говорятъ въ такихъ случаяхъ и не находилъ.
«Что вы дѣлаете!… Какъ вы смѣете?!
Какое вамъ до меня дѣло?!», хотѣлъ онъ крикнуть, но языкъ не повиновался
ему, и только легкое шипѣнiе раздалось изъ его рта.
Онъ безсильно свалился въ объятiя схватившаго
его человѣка, едва слышно прошепталъ: — «оставьте меня», — и залился
слезами, всхлипывая, какъ ребенокъ.
Ферфаксовъ взялъ полковника за талiю,
осторожно свелъ его съ глыбы и повелъ по пустынной береговой дорогѣ къ
дому, Онъ зналъ, что тутъ надо что то говорить и успокоить полковника, но не
рѣчистъ былъ Ферфаксовъ. При томъ же и смущенъ онъ былъ до нельзя.
Полковникъ былъ и годами и положенiемъ старше его, и онъ боялся какъ нибудь
обидѣть, или задѣть самолюбiе полковника. Ферфаксовъ призвалъ на
помощь Бога. Онъ вспомнилъ, какъ напутствовалъ Христосъ апостоловъ и какъ
говорилъ имъ, что не нужно заранѣе обдумывать, что сказать, но что Духъ
Святый найдетъ на нихъ и научитъ, что говорить…
Полковникъ совершенно размякъ. До дома было
недалеко и наступалъ тотъ часъ, когда надоѣдливый сверлящiй звонъ
будильника Мишеля Строгова подыметъ съ постелей все населенiе виллы «Les
Coccinelles».
— Ну зачѣмъ это? — началъ нерѣшительно
и несмѣло Ферфаксовъ. — Ну къ чему?… Старый дуракъ глупости болталъ, а вы
и разстроились… Да все это вздоръ… Россiя будетъ… Еще и какая прекрасная Россiя
будетъ!…
— Но мы не увидимъ ее, — блѣднымъ
голосомъ сказалъ полковникъ.
— Еще и какъ еще увидимъ ее. Повѣрьте
мнѣ, еще и сдѣлаемъ кое что для нея, для ея спасенiя хорошее,
большое дѣло сдѣлаемъ.
— Нѣтъ!… Что ужъ!… Куда ужъ!… Что вы
меня, какъ ребенка утѣшаете, — проговорилъ съ тоскою въ голосѣ
полковникъ, и сейчасъ же со злобою добавилъ: — напрасно, знаете, вы
вмѣшались не въ свое дѣло… Что же я то теперь буду дѣлать? —
съ ужаскымъ отчаянiемъ воскликнулъ полковникъ. — Ко всей пошлости моей жизни,
вы прибавили еще и этотъ вѣчный позоръ.
— Говоритъ псалмопѣвецъ Давидъ: —
«вечеромъ водворяется плачъ, а на утро радость».
— А да что тамъ!… Псалмопѣвецъ Давидъ!…
Глупости все это!…
Ho радость яркаго, солнечнаго весенняго утра
была кругомъ, и не могъ уже полковникъ не ощущать ее. Птицы пѣли въ
вѣтвяхъ деревьевъ аллеи. Люди еще не появились. Мирны и тихи были въ
утреннемъ свѣтѣ маленькiя дачки съ закрытыми ставнями окнами. Пыль и
газы машинъ прилегли къ землѣ вмѣстѣ съ росою. Воздухъ былъ
свѣжъ и душистъ. Съ нимъ въ самую душу полковника вливалась такая радость
бытiя, которой онъ никакъ не могъ противостоять. Онъ невольно слушалъ, что
спокойно и разсудительно говорилъ ему Ферфаксовъ и, хотя все продолжалъ думать,
что все это просто сонный бредъ, задавалъ вопросы и давалъ отвѣты.
Удивительна была рѣчь Ферфаксова и такъ
неожиданна.
— Вотъ вы, Георгiй Димитрiевичъ, на какое
страшное дѣло покусились, a o томъ не подумали, что такая ваша
рѣшимость, такая готовность разстаться съ лучшимъ Божьимъ даромъ — жизнью
— могла бы послужить на пользу Родинѣ.
— Но… Какъ?… Поѣхать туда?… Для этого
нужны визы, фальшивые паспорта?… Деньги?… Что же, я готовъ… Хоть сейчасъ… На
какой угодно террористическiй актъ я готовъ. Вы сами видали — мнѣ жизнь
копѣйка… Научите, какъ это сдѣлать?… Къ кому пойти?… Вы можете
мнѣ вѣрить, я не предамъ… He разболтаю… Человѣкъ, пережившiй
все то, что я сейчасъ пережилъ, мнѣ кажется достоинъ довѣрiя… Вы
тѣмъ болѣе меня не первый день знаете, и знаете, почему я пошелъ на
это…
— Вы все хотите идти старыми путями… Маленькiе
террористическiе акты… Безусловно необходимые… Митинги протестовъ… Посылка
агитацiонной литературы. Все это хорошо, когда мало денегъ и нѣтъ
организацiи…
Полковникъ съ удивленiемъ посмотрѣлъ на
Ферфаксова. Немудрящiй онъ офицеръ съ собачьими, не ломающими своего прямого
взгляда глазами. Откуда онъ такъ говоритъ?… Что знаетъ онъ такое, чего онъ,
полковникъ Нордековъ, не слыхалъ.
— А что же?… Есть деньги?… Есть организацiя?…
Что то не вѣрится… У насъ объ этомъ ничего не слышно?… По Парижу объ
этомъ не болтаютъ…
— Вотъ это то, что не болтаютъ и хорошо… Это
доказываетъ серьезность того, что я вамъ предложу…
Они входили на rue de la Gare. Полковникъ заволновался
и снова сталъ раздражителенъ.
— Что вы меня арабскими сказками успокаиваете.
Вотъ я у своего дома. Мнѣ предстоитъ объясненiе съ женою. Если она встала
— она уже могла найти мою записку и, согласитесь, что достаточно глупо послѣ
нея взять, да вотъ такъ вотъ и явиться собственною персоною, цѣлымъ и
невредимымъ… Глупо-съ… Нестерпимо
глупо!…
— Вы что же тамъ написали?…
— To, что всегда въ такихъ случаяхъ пишутъ: —
«въ смерти моей никого не винить»… Ну и прочее, что тамъ полагается… Чтобы и
тѣла моего не искали… Ну и о причинахъ тоже… Хорошъ буду я… такъ вотъ и
явиться… Воскресшiй покойникъ.
— Гдѣ вы оставили вашу записку?
— На нашемъ единственномъ спальномъ
столикѣ, подъ ея бюваромъ.
— Ну, бѣда не велика. Она еще, можетъ
быть, жена то ваша, и не встала. Вѣдь и шести часовъ нѣтъ. А и
встала, такъ не сейчасъ она станетъ по бюварамъ рыться. Вы не первый разъ не
ночуете дома… Ну, а если она и встала, и переполохъ тамъ поднялся, такъ и то
бѣда совсѣмъ не непоправимая…
— Ну те?…
— Скажите, что у меня съ вами была
американская дуэль. На всякiй случай вы заготовили записку, а жребiй вытянулъ
я, да и раздумалъ стрѣляться, и мы — помирились.
— Вы такое
берете на себя?…
— Что такое?…
— Да вѣдь это… какъ то… Некрасиво что ли
для васъ то выходитъ.
— Въ жизни бываютъ такiя положенiя, когда можно
и маленькое, условное некрасивое, сдѣлать во имя громаднаго и несказанно
прекраснаго.
— Какiя же это такiя времена?
— Когда идутъ спасать Россiю.
— Вы шутите, Факсъ. Есть вещи, которыми нельля
шутить.
— Я это понимаю.
Полковникъ остановился у калитки палисадника.
Вилла «Les Coccinelles» спала крѣпкимъ сномъ. Даже у Агафошкиныхъ не
горѣло огня.
Это немного успокоило полковника.
— Но вы понимаете весь ужасъ моего положенiя, —
сказалъ онъ. — Значитъ, опять все по старому и то, отъ чего я рѣшился
уйти — продолжается. Сейчасъ кофе… Газета… А!… да вы нашу жизнь знаете!…
Неонила Львовна съ ея «винтиками»… Леночка — совдепка… Опять еще что нибудь
учинитъ, какъ давеча со щенятами!… И контора!… Вы знаете: — мнѣ все это
такъ обрыдло, осточертѣло, что, ей Богу, вотъ не могу я этого больше
выносить. Это же пошлость, — крикнулъ полковникъ.
— Это не пошлость, — тихо сказалъ Ферфаксовъ, —
но неизбѣжныя мелочи жизни.
— Все равно, — простоналъ полковникъ. — He
могу!… Ай… не могу!
— И не надо.
— To есть какъ это такъ не надо?…
— Да очень просто. Сегодня поѣдете въ
контору послѣднiй разъ и скажете, что берете разсчетъ. Сегодня вы
,поступаете на новое мѣсто. И вся недолга.
— Полноте… Я не ребенокъ… Куда же это я поступилъ?
Какое мѣсто?… При теперешнемъ то кризисѣ, при общей
безработицѣ?… Да вѣдь мнѣ семью кормить надо. Посчитайте,
сколько насъ… Я все-таки тысячу сто франковъ каждый мѣсяцъ въ общiй
котелъ вносилъ.
— Вы будете получать полторы тысячи на всемъ
готовомъ.
— Гдѣ же это такiя золотыя розсыпи
открылись?
— Оффицiально, вы поступаете въ фильмовое общество
и ѣдете на съемки на острова Галапагосъ.
— He оффицiально?…
— Потомъ сами увидите.
— Н-ну, знн-наете, — дѣлая шагъ къ
калиткѣ и берясь за ручку, сказалъ полковникъ. — Шутки ваши переходятъ
границы дозволеннаго даже и между друзьями. He знаю, какъ въ такихъ случаяхъ
принято, благодарить за то, что вы сдѣлали, или нѣтъ… Я не благодарю…
Я хотѣлъ уйти отъ каторги… Вы мнѣ помѣшали… А милыя шутки ваши
бросьте… Я въ нихъ не нуждаюсь.
— Да я вовсе и не шучу… И чтобы доказать это
извольте получить двѣ тысячи франковъ авансомъ.
Ферфаксовъ къ крайнему удивленiю полковника,
знавшаго денежныя дѣла его, вынулъ объемистый бумажникъ и досталъ изъ
него двѣ большiя пестрыя новыя тысячефранковыя бумажки и протянулъ ихъ
полковнику. Но полковникъ ихъ не бралъ.
— Послушайте… а росписка?
— Вы распишитесь послѣ у казначея въ
требовательной вѣдомости.
Полковникъ все не бралъ денегъ.
— Знаете, — сказалъ онъ, — хотя и говорятъ:
«деньги не пахнутъ», для меня деньги очень даже пахнутъ… И теперь особенно. Мы
въ такое подлое время живемъ… Вы меня простите… Но и брату родному вѣрить
нельзя… Особенно, когда такъ вдругъ съ бухты барахты вамъ предлагаютъ такiя
большiя деньги… Организацiи могутъ быть различныя… Имѣйте въ виду, —
очень строго сказалъ полковникъ, — хотя вы и видѣли меня въ моментъ
полнаго и недостойнаго офицера упадка духа — я офицеръ!… И вы понимаете… Я ни въ какiя этакiя политическiя
авантюры, гдѣ раздѣломъ Россiи пахнетъ и распродажей ея по частямъ
иностранцамъ никогда не пойду.
Ферфаксовъ прервалъ его. Онъ посмотрѣлъ
немигающими глазами въ глаза полковнику, въ самую душу его, казалось, проникъ
своимъ честнымъ собачьимъ взглядомъ и съ достоинствомъ сказалъ:
— Вы мнѣ можете вѣрить… Я
вѣдь тоже офицеръ… Очень маленькiй и глубокой армiи офицеръ… Тѣмъ
болѣе… — Ферфаксовъ выпрямился, гордо поднялъ голову и съ громаднымъ
достоинствомъ добавилъ послѣ нѣкоторой выдержки: — Я офицеръ
Россiйской Императорской армiи и вы должны мнѣ вѣрить. Эти деньги
чистыя. Я даю ихъ вамъ, чтобы намъ вмѣстѣ работать для спасенiя
Россiи… всего мiра… отъ большевиковъ.
Полковникъ медленно взялъ и спряталъ деньги.
«Все это», — снова подумалъ онъ. —
«происходитъ не то въ томъ снѣ, что мнѣ гдѣ то снится, не то
въ небытiи, послѣдовавшемъ послѣ моего выстрѣла… И это какая
то совсѣмъ необыкновенная вилла «Les Coccinelles»… Посмотримъ, что будетъ
дальше, когда я проснусь или совсѣмъ умру»…
Онъ крѣпко пожалъ руку Ферфаксову и
быстрыми шагами пошелъ по дорожкѣ своего палисадника.
Въ ту же минуту, на верху, въ каморкѣ
Мишеля Строгова, нудно, назойливо, громко и безконечно залился колокольчикъ
будильника.
Въ подвальномъ этажѣ загорѣлся
огонь. Проспалъ, значитъ, старый Агафошкинъ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
« КАПИТАНЪ НЕМО ».
…«Пособiемъ художника всегда будетъ фантазiя,
а цѣлью его, хотя и несознательною, пассивною, или замаскированною,
стремленiе къ тѣмъ или другимъ идеаламъ, хоть бы, напримѣръ, къ
усовершенствованiю наблюдаемыхъ имъ явленiй, и замѣнѣ худшаго
лучшимъ.
И это лучшее и будетъ идеаломъ, отъ котораго
не отдѣлаться художнику, особенно, когда у него, кромѣ ума, есть и
сердце»…
И. А. Гончаровъ. «Лучше поздно, чѣмъ никогда».
I.
Уже пять лѣтъ, какъ инженеръ Долле велъ
двойную жизнь. У него было нѣсколько заводовъ и мастерскихъ, обслуживавшихъ
его изобрѣтенiя и находившихся въ рукахъ акцiонерныхъ компанiй и
обществъ, его состоянiе быстро росло и исчислялось уже во многихъ сотняхъ
миллiоновъ франковъ, а онъ продолжалъ вести тотъ же скромный образъ жизни. Онъ
не игралъ въ игорныхъ домахъ, или на биржѣ, не имѣлъ дорогой любовницы,
не расточалъ своего богатства на внѣшнюю, всѣмъ видную благотворительность.
Онъ терпѣливо копилъ и прiумножалъ свои капиталы. Люди спрашивали: «для
чего»? Люди завидовали ему и осуждали его. Онъ не обращалъ на это вниманiя.
Впрочемъ, мало кто зналъ точно цифру его состоянiя. Долле не любилъ, чтобы ему
заглядывали въ карманъ, или знали состоянiе его текущихъ счетовъ.
Но кончался его рабочiй день, день инженера и предсѣдателя
многихъ компанiй и обществъ, и Долле исчезалъ изъ богатаго особняка, и куда онъ
ѣздилъ, чѣмъ занимался — это было тайной. При этихъ
поѣздкахъ, если ему приходилось называть себя — онъ называлъ себя: —
«Капитанъ Немо»… Люди смѣялись этому, изъ Жюль Верна взятому псевдониму,
но принимали его, ибо то, что говорилъ и дѣлалъ съ ними этотъ
таинственный Капитанъ Немо было интересно и завлекательно.
Началось это пять лѣтъ тому назадъ и
совершенно случайно.
Инженеръ Долле былъ по дѣламъ въ
Берлинѣ. Вечеръ у него былъ свободный, дѣваться было некуда, и
Долле пошелъ по сосѣдству съ гостинницей, гдѣ онъ остановился, въ
Винтергартенъ. Онъ никогда раньше не бывалъ въ подобнаго рода заведенiяхъ.
Программа, какъ всегда была разнообразная и
интересная. Были дрессированные медвѣди, катавшiеся на конькахъ, былъ
человѣкъ, въ котораго пускали токъ страшнаго напряженiя и потомъ
извлекали изѣ него чудовищныя искры, былъ фокусникъ, были гимнасты,
летавшiе подъ самымъ потолкомъ, были жонглеры, былъ какой то феноменальный
математикъ.
Долле смотрѣлъ это все съ необычайнымъ
вниманiемъ. Онъ понималъ, что передъ нимъ были люди-феномены, какъ и онъ самъ
со своими изобрѣтенiями былъ тоже человѣкомъ-феноменомъ. Внезапно
онъ всталъ на самомъ интересномъ мѣстѣ программы и, не обращая вниманiя
на воркотню сосѣдей и наступая имъ на ноги, поспѣшно вышелъ изъ
зала.
Онъ пошелъ по Фридрихштрассе. Онъ шелъ,
опустивъ голову, ни на кого не глядя, наталкиваясь на прохожихъ и самъ съ собою
мысленно разсуждая. Его принимали за пьянаго, за умалишеннаго.
«Вотъ въ чемъ была ошибка», — думалъ онъ,
шагая по тѣсной улицѣ. «Мы брали обыкновенныхъ людей. Чтобы
побѣдить зло, надо отыскать вотъ этакихъ феноменовъ. Феноменовъ химики,
механики, радiотехники, самолетнаго дѣла, кинематографiи, да съ ними и
работать. Тогда можно разсчитывать на побѣду… Борьба съ Сатаною… Сатана
силенъ и всемогущъ, какъ и ангелы Господни. Надо противъ него призвать всю силу
Божiю, проявленную въ людскихъ талантахъ и людской генiальности… Мы брали
среднихъ, можетъ быть, очень честныхъ людей, но людей технически отсталыхъ… Да,
когда появились первый разъ танки… Все побѣжало… Надо глушить мозги все
новыми и новыми изобрѣтенiями… Ихъ такъ много теперь, и такъ велико
могущество человѣка.. .Этимъ и займусь… Это и будетъ то, для чего я
копилъ деньги… На мнѣ неоплатный долгъ той Россiи, что дала мнѣ
образованiе….».
Онъ поверкулъ назадъ, въ гостинницу, и съ
этого дня въ его жизни появилась таинственность: — народился капитанъ Немо.
Съ громаднымъ усердiемъ и упорствомъ онъ
отыскивалъ людей съ выдающимися способностями въ области химiи и механики. Его
старыя связи, его извѣстность, какъ изобрѣтателя и химика, знанiе
иностранныхъ языковъ и, конечно, деньги, — ему въ этомъ помогали. Передъ нимъ
открывались самыя замкнутыя химическiя лабораторiи, его пускали на самые
запретные аэродромы и въ ангары съ самыми новыми аппаратами, его знакомили съ
послѣдними открытiями въ области радiо и телевизiи.
Вездѣ капитанъ Немо искалъ феноменовъ.
Онъ терпѣливо составлялъ свое «варьете», какъ онъ мысленно называлъ эти
поиски, и когда находилъ достойнаго человѣка, онъ сходился съ нимъ,
испытывалъ его съ разныхъ сторонъ и когда видѣлъ пониманiе того, что надо
дѣлать — онъ нанималъ его на службу и давалъ ему опредѣленныя
заданiя.
Такъ создавалась постепенно та сила, съ
которой можно было выступить противъ врага.
Но, когда уже замыкался кругъ и работа
приходила къ концу, капитанъ Немо увидалъ, что этого недостаточно, что въ этой
работѣ не обойтись безъ простыхъ, немудрящихъ, но честныхъ людей. Въ
дополненiе къ техникѣ, въ свое время понадобится и масса, а массу эту
могутъ создать офицеры, отъ чьихъ услугъ онъ сначала отказался.
Какъ разъ въ это время случай привелъ къ нему
его стараго товарища по корпусу и друга дѣтства — ротмистра Петра
Сергѣевича Ранцева. Ранцевъ пришелъ къ нему по личному дѣлу, и въ
немъ показалъ такое безкорыстiе, такую готовность отречься во имя дѣла
отъ всего, даже отъ такъ естественной отцовской любви, что капитанъ Немо
понялъ, что лучшаго исполнителя его плановъ ему не найти, и онъ пригласилъ
работать Ранцева. Онъ поручилъ ему набирать роту честныхъ людей, самоотверженно
любящихъ Родину…
Такъ началась работа капитана Немо съ
Ранцевымъ.
II.
Капитанъ Немо проснулся среди ночи отъ
ѣдкой боли въ боку. Боль эта сейчасъ же и прошла, какъ только онъ легъ на
другую сторону. Но заснуть больше онъ не могъ. Онъ лежалъ въ своей богатой
спальнѣ въ Парижскомъ домѣ и думалъ.
Въ городѣ была та тишина, что бываетъ въ
Парижѣ между двумя и четырьмя часами ночи, когда на короткое время жизнь
въ Парижѣ замираетъ. Въ этой непривычной тишинѣ хорошо и глубоко
думалось.
Эта мимолетная боль совсѣмъ особенно
направила мысли Немо.
«Въ сущности все мое дѣло виситъ на
волоскѣ… Какая нибудь случайность… автомобильная катастрофа, несчастный
случай на улицѣ… Наконецъ, меня могутъ отравить… Или простая
болѣзнь, — и все мое дѣло погибнетъ, не увидавъ исполненiя. Это
большая ошибка съ моей стороны… И я ее исправлю».
Капитанъ Немо досталъ съ ночного столика часы.
Было безъ четверти пять. Капитанъ Немо всталъ, зажегъ огни и тщательно
одѣлся. Онъ продѣлалъ короткую гимнастику, потомъ прошелъ изъ
спальни въ небольшой кабинетъ, дверь котораго была всегда подъ ключомъ и куда,
кромѣ довѣреннаго слуги француза, никто не допускался.
Тамъ онъ остановился передъ изображенiемъ той,
кому онъ отдалъ всѣ свои помыслы, все свое состоянiе и трудъ.
Громадная двадцативерстная карта Россiи,
испещренная значками и наклейками висѣла передъ нимъ на
стѣнѣ.
Капитанъ Немо долго стоялъ передъ ней и
молитвенное выраженiе не сходило съ его лица.
— Да, — это такъ, — тихо сказалъ онъ. — Это и
есть главное… Все… Для чего жить и умереть… А то?… Глупости… И, если кто
узнаетъ, найдутъ смѣшнымъ…
Онъ оторвалъ свой взглядъ отъ карты и подошелъ
къ небольшому дорогому бюро краснаго дерева въ драгоцѣнной старинной
рѣзьбѣ. Онъ открылъ это бюро и выдвинулъ ящикъ. Въ немъ, въ
рамѣ темно зеленаго бархата, подъ граненымъ стекломъ лежала увеличенная
фотографiя снимка, сдѣланнаго съ амазонки въ лѣсу. Стройная
дѣвушка сидѣла на прекрасной лошади. Какъ ни мала была голова на
снимкѣ, можно было разобрать тонкiя и красивыя черты ея лица.
Капитанъ Немо долго смотрѣлъ на это
изображенiе.
«Когда то», — думалъ онъ, — «мы, трое кадетъ,
любили ея мать… Я о своей любви скрывалъ. Ушелъ въ науку. Два другихъ
горѣли въ любви къ ней. Ранцевъ былъ съ нею счастливъ. Это его дочь. И надо
же такъ быть, что мимолетная встрѣча, короткiй разговоръ и люблю… Люблю…
Люблю… Потому что это же она, наша королевна Захолустнаго Штаба, наша милая,
милая Валентина Петровна, только гораздо красивѣе и кажется безъ ея
недостатковъ захолустнаго армейскаго воспитанiя… Къ чему это?… Знаю, что ни къ
чему… Знаю, что сейчасъ я, какъ влюбленный гимназистъ, но никому, никому не
довѣрилъ бы тайны, а ей скажу… He все, скажу, но скажу, что живъ ея отецъ
и скажу, что мы дѣлаемъ… Почему, зачѣмъ?… Да потому, что если бы
этого не было, уже очень сталъ бы я черствымъ. И вотъ и у меня глупая, не
открытая, ненужная и поздняя любовь»…
Капитанъ Немо захлопнулъ ящикъ и заперъ бюро на
ключъ.
«Маленькая слабость большихъ людей».
Гдѣ то за стѣною часы пробили
пять. Капитанъ Немо пошелъ въ рабочiй кабинетъ. Тамъ, занимая всю стѣну
передъ двумя окнами стоялъ широкiй чертежный столъ. На немъ, въ большомъ
порядкѣ, были положены папки съ бумагами. Угломъ къ нему былъ такой же
столъ, гдѣ была укрѣплена доска съ чертежами, прикрытыми тонкой
папиросной бумагой.
«Да», — подумалъ Долле, слегка приподнимая
бумагу и разглядывая изображенный на ней чертежъ аэроплана. Въ углу тонко
карандашемъ были сдѣланы выкладки. «Какъ долженъ я быть благодаренъ
старому профессору Жуковскому. Это онъ вдохнулъ въ меня непоколебимую
вѣру въ науку. Онъ въ своей аэродинамической лабораторiи предвидѣлъ
возможность полетовъ, гораздо раньше, чѣмъ всѣ эти Блерiо и другiе
стали летать… Онъ математикой выработалъ теорiю устойчивости и приземливанiя… Я
передалъ свои знанiя летчику Аранову, и мы создали то, что никому еще и не
снилось…
Капитанъ Немо, нѣсколько минутъ
внимательно разсматривалъ выкладки цифръ въ углу чертежа, поправилъ въ нихъ,
стеръ резинкой и снова написалъ.
— Надо будетъ провѣрить въ мастерской…
Если бы это было въ Россiи, какъ легко было бы работать!… Съ этими людьми
бѣда… Зажгутся, работаютъ, какъ маленькiе генiи, понимаютъ все съ
полуслова, а потомъ, вдругъ, какая то подозрительность… И работа стоитъ
недѣлями… И вездѣ надо скрываться, вездѣ тайна… Обманъ… и я
не я, а капитанъ Немо… Даже глупо какъ то…
Капитанъ Немо снялъ съ руки золотые часики
браслетъ и, положивъ ихъ на большой столъ, сталъ разсматривать бумаги.
Временами онъ поглядывалъ на часы. Когда было безъ четверти шесть, онъ надавилъ
пуговку электрическаго звонка.
Лакей безшумно открылъ дверь и внесъ подносъ
со стаканомъ чая и хлѣбомъ съ масломъ.
Капитанъ Немо пальцемъ показалъ куда поставить
подносъ и, не отрываясь отъ бумагъ, сказалъ:
— Monsieur
Richard, est venu…
— Oui
monsieur.
— A господинъ Ранцевъ?
— Собираются уѣзжать.
— Задержите господина Ранцева. Попросите ко
мнѣ господина Ришара.
— C'est entendu, monsieur.
Въ тѣ пять минутъ, что прошли
послѣ ухода лакея и пока снова не постучали въ двери Немо успѣлъ
закончить свой несложный завтракъ.
— Мосье Ришаръ?… — спросилъ Немо на стукъ.
— Да.
— Пожалуйте ко мнѣ.
Высокiй бритый французъ съ сухимъ
безстрастнымъ лицомъ секретаря большого человѣка вошелъ въ кабинетъ. На
немъ былъ темно синiй пиджакъ особаго покроя и сѣро-синяя рубашка съ
голубымъ галстухомъ съ двумя серебрянными дорожками.
— Здравствуйте, мосье Ришаръ.
— Здравствуйте, господинъ инженеръ.
Дальше разговора не было. Немо быстро
передавалъ бумаги и чертежи секретарю.
— Въ чертежную, генералу Чекомасову… На заводъ…
Въ химическую лабораторiю, господину Вундерлиху… Господину Лагерхольму… Отъ
капитана Ольсоне есть что нибудь?
— По нашему радiо сегодня ночью передалъ, что
можно начинать погрузку. «Немезида» готова. Всѣ бумаги въ порядкѣ.
Пропускъ полученъ.
— Хорошо. Возьмите мой Рольсъ Ройсъ. Мнѣ
онъ до вечера не будетъ нуженъ. Съѣздите въ упаковочную, подгоните
отправку аэропланныхъ частей. Побывайте на таможнѣ. Смажьте, если нужно.
Мосье Ришаръ сдѣлалъ недоумѣвающiй
жестъ.
Немо рукою показалъ, что надо сунуть деньги.
— А, понимаю… Думаю, что не понадобится.
— Ваше дѣло… Надо начинать отправку.
Сами видите — медлить больше нельзя. Европа загорается.
— Я это понимаю.
— Такъ дѣйствуйте… Попросите ко мнѣ
сейчасъ Ранцева въ нижнiй кабинетъ.
— Слушаю.
— До свиданiя, дорогой Ришаръ.
III.
Въ нижнемъ кабинетѣ, гдѣ все было
просто, по казенному убрано, гдѣ вмѣсто дорогихъ ковровъ былъ паркетъ
и стояли столы, стулья, да въ шкапахъ были
книги и свертки картъ, капитана Немо дожидался
мускулистый крѣпкiй человѣкъ, лѣтъ пятидесяти, бритый, съ
коротко остриженными, густыми, сѣдыми волосами. И такъ же, какъ капитанъ
Немо, какъ всѣ въ этомъ домѣ, онъ былъ въ просторномъ темно-синемъ
костюмѣ своеобразнаго полувоеннаго покроя.
Капитанъ Немо быстро подошелъ къ нему.
— Какъ я радъ, Петръ Сергѣевичъ, что
успѣлъ захватить тебя прежде, чѣмъ ты уѣхалъ. Ты куда
собирался?
— Какъ всегда. Въ Нордековскую роту. На
занятiя.
— Это отъ тебя не уйдетъ. У меня же къ
тебѣ большое и важное дѣло. Я ночь не спалъ, думая объ немъ. Ты
доволенъ людьми?
— И да, и нѣтъ. Все таки сильна вь нихъ
бѣженская психологiя. Ихъ многое смущаетъ. Очень напуганные въ прошломъ —
они и теперь боятся не туда попасть… Наткнуться на авантюру или, что хуже на
провокацiю.
Очень хорошъ у насъ Факсъ. Вотъ
преданнѣйшiй тебѣ человѣкъ.
— Что же ихъ смущаетъ?
— Мелочи… Намъ съ тобою онѣ
незамѣтны… Имъ, видимо, тягостны.
— Напримѣръ?
— Почему требуется отказъ отъ спиртныхъ
напитковъ и куренiя?… Что это за общество трезвости, молъ, такое… Мы не
дѣти…
— Вотъ какъ!… Если во имя Россiи не могутъ
отказаться отъ соски во рту… Ну и Богъ съ ними!
— Ричардъ Васильевичъ… Ты не справедливъ къ
нимъ… О Россiи то нѣтъ никакой рѣчи. Они нанимаются въ какое то
таинственное кинематографическое общество… и только… Имъ непонятны эти
требованiя.
— Но ты сказалъ имъ, что это испытанiе. Впереди
имъ, предстоятъ тягости и лишенiя при съемкѣ, не совсѣмъ обычной.
Нужны твердые, волевые, крѣпкiе и сильные духомъ люди. А какая же это
сила воли, если я не могу отказаться отъ куренiя?… Это, согласенъ, мелочь.. Но
ты строевой офицеръ долженъ меня понять… Когда часовому разрѣшили стоять
на посту, какъ ему угодно, курить и даже сидѣть… Что вышло?…
— He стало часового.
— Когда не стали слѣдить за соблюденiемъ
формы въ одеждѣ и въ форму допустили моду — армiя, другъ мой, стала
разваливаться. Мелочи… Да, мелочи… Потому ихъ съ такою легкостью и отвергаютъ,
но въ суммѣ своей онѣ, эти мелочи, создаютъ нѣчто крупное… И
не намъ это передѣлывать… Вотъ, можетъ быть, имъ еще не нравится, что я
ихъ одѣваю одинаково, какъ бы въ форму?…
— Нѣтъ, это нравится, — быстро сказалъ
Ранцевъ. — Они понимаютъ, что общество хочетъ, чтобы они и внѣшне были
солидарны, составляли одно цѣлое… Имъ это опредѣленно нравится. Но
смущаетъ твоя анонимность, твоя невидимость, псевдонимность… Капитанъ Немо…
Жюль Вернъ какой то!… Въ этомъ видятъ несерьезность предпрiятiя… А
нѣкоторые боятся попасть въ просакъ… Вѣдь не забудь про большевицкiй
«трестъ»… Очень всѣ напуганы… Кромѣ того и шопоты завистниковъ и
обойденныхъ сильно влiяютъ, ну и создается атмосфера, которую какъ то надо
разрѣдить…
— Сейчасъ въ перiодъ организацiи, что имъ
угрожаетъ?… Имъ платятъ, какъ никогда они не получали… Это разъ… Фильмовое
общество… Два… Постановка необычайной феерiи на островахъ Галапагосъ Что же
тутъ страшнаго?… Когда же потребуется ихъ смѣлость, рискъ жизнью — они
увидятъ для чего, во имя чего это дѣлается… Когда имъ будутъ показаны
всѣ наши изобрѣтенiя, всѣ достиженiя техники — не думаю, чтобы
кто нибудь сталъ роптать… Вѣдь они всѣ убѣжденные
«бѣлые». Россiя то для нихъ не пустой звукъ… Значитъ, и довольно… Скажи
Гласову, Амарантову, Нордекову, всѣмъ полковникамъ скажи: — когда они
поютъ въ хорѣ, играютъ въ оркестрѣ, — какая дисциплина! Ни одна
какая нибудь тамъ волторна, или пикколо не посмѣютъ пикнуть безъ воли
дирижера… такъ я требую такой же дисциплины… Я плачу хорошо и я требую… Пусть
вспомнятъ старое, прежнюю свою службу… Да, еще… Ты можешь… намекнуть что ли…
Честнымъ словомъ своимъ завѣрить ихъ, что это, въ конечномъ счетѣ,
дѣлается для Россiи… Фильмовое общество… Анонимная компанiя. Острова
Галапагосъ… Капитанъ Немо… Но развѣ ые понимаютъ они въ какой
обстановкѣ приходится работать… Вѣдь мы не у себя дома. Кругомъ
враги… Доносы… Слѣжка… Болтовня… Какъ же тутъ обойтись безъ анонимности,
безъ «защитнаго» что ли цвѣта?…
Капитанъ Немо указалъ Ранцеву на стулъ противъ
себя.
— Садись. Нашъ разговоръ будетъ дологъ.
Нѣсколько минутъ капитанъ Немо
смотрѣлъ въ глаза Ранцеву. Тотъ смѣло принялъ его взглядъ.
Казалось, капитанъ Немо еще разъ провѣрялъ себя и испытывалъ своего
стараго столько разъ испытаннаго друга.
За окномъ съ пестрыми стеклами и фигурной
желѣзной рѣшеткой утренними шумами ворошился Парижъ. Въ глубокомъ,
узкомъ кабинетѣ, у стола, стоявшаго посерединѣ, были сумракъ и
полная тишина. Тяжелая дверь отдѣляла кабинетъ отъ остальной квартиры.
Онъ былъ угловой и ни одинъ звукъ изъ квартиры не проникалъ въ него. Ни одно
слово капитана Немо не могло быть слышно рядомъ.
Въ этой тишинѣ капитанъ Немо началъ
говорить о томъ, на что навела его внезапная мучительная боль въ боку,
разбудившая его ночью.
IV.
— Ошибка вождей послѣдняго, нашего
времени… Да и нашего ли только?… А Петръ Великiй?… — началъ Немо, — въ томъ,
что они не имѣли замѣстителей, продолжателей, исполиителей,
наконецъ, завершителей своего дѣла… Были наслѣдники —
замѣстителей не было. У Государя Императора Николая II былъ
Наслѣдникъ Алексѣй Николаевичъ. Въ годъ начала Великой войны ему
минуло десять лѣтъ. Всѣ — и Государь Императоръ больше всѣхъ
— знали, что онъ страдаетъ неизлѣчимой наслѣдственнбй болѣзнью,
и что жизнь его всегда виситъ на волоскѣ, а потому врядъ ли ему придется
царствовать. Казалось бы тутъ то и нужно было назначить замѣстителя и
особымъ манифестомъ объявить, что такой то въ случаѣ чего является
замѣстителемъ. Этого человѣка, конечно, надо держать при себѣ,
въ курсѣ всѣхъ дѣлъ и предположенiй, чтобы онъ каждую минуту
могъ взять бразды правленiя… Этого не было… Какъ, возможно, совсѣмъ по иному
разыгрались бы февральскiя событiя, если бы въ минуту душевной слабости
Государя, когда онъ отрекался отъ Престола, онъ могъ бы скаазть: — «я усталъ…
вы затравили меня… Передаю власть замѣстителю». Но вотъ замѣстителя
то и не было… Почему?… Боялись ли интригъ, подвоховъ, измѣны?… Боялись ли
подлости людской, или это просто было не принято?… Богъ знаетъ почему… Мистицизмъ,
можетъ быть, тутъ сыгралъ роль? Въ извѣстныхъ кругахъ не любятъ говорить
и думать о смерти… Можетъ быть — ревность?… зависть?… недовѣрiе?… Но,
вмѣсто Императора съ его обожествленной властью въ одинъ далеко не
прекрасный мартовскiй день осталось пустое мѣсто… Всѣ видѣли,
что произошло отъ этого… Но и дальше продолжается то же самое. Генерала
Корнилова смѣняетъ генералъ Деникинъ, генерала Деникина — генералъ
Врангель — все это не въ порядкѣ замѣстительства, подготовленнаго,
но чисто случайно, и въ старомъ дѣлѣ являются новые люди, не знающiе
обстановки, не посвященные въ нее. Не было замѣстителя и у Великаго Князя
Николая Николаевича, и смерть всякiй разъ обрывала большое начатое дѣло…
Да вѣдь и у Муссолини нѣтъ замѣстителя, какъ нѣтъ его и
у Гинденбурга, какъ нѣтъ ихъ ни у Пильсудскаго, ни у Хитлера. Каждый
работаетъ самъ за себя, не довѣряя своихъ плановъ другому. Великiй
французскiй законъ: «lе roi et mort — vivе lе гоi» отринутъ…
А вѣдь это онъ давалъ спокойствiе
народу, твердость власти, широкое развитiе непрерывно идущаго дѣла, которому
и самая смерть не страшна. Въ этомъ все величiе, значенiе и преимущество
монархiи.
Стоявшая въ кабинетѣ тишина казалась
Ранцеву торжественной. Въ нее вѣско и внушительно упадали слова.
— Роль замѣстителя!… Какая это
неблагодарная роль! Онъ долженъ все знать. Все зная и въ готовую умственную
работу начальника внося поправку своего свѣжаго ума, онъ будетъ
видѣть ошибки и онъ долженъ молчать и слушаться. Свое честолюбiе онъ
долженъ спрятать надолго, можетъ быть, навсегда… Какая честность, какое
благородство характера должны въ немъ сочетаться! Все зная и обладая всею
властью — онъ ничего не можетъ дѣлать самъ, пока живъ его начальникъ.
Какой соблазнъ! Прибавь къ этому лесть окружающихъ, заискиванiя такъ называемой
« оппозицiи », а гдѣ ея нѣтъ? — и ты поймешь что такое быть
замѣстителемъ.
Капитанъ Немо замолчалъ. Ранцевъ неподвижно сидѣлъ
противъ него. Они оба не слышали городскихъ шумовъ. Оии ушли во что то
отвлеченное, важное. Ранцевъ душою ощущалъ такое непривычное у капитана Немо
волненiе и оно сообщалось ему. Онъ молчалъ, ожидая, что скажетъ дальше его
другъ.
— Петръ Сергѣевичъ, — съ нѣкоторою
торжественностью сказалъ капитанъ Немо, — я все обдумалъ зтою ночью, все
взвѣсилъ и все предвидѣлъ… Я назначаю тебя своимъ
замѣстителемъ.
— Ричардъ Васильевичъ, — очень тихо и серьезно
отвѣтилъ Ранцевъ, — Я благодарю за честь и за довѣрiе. Но… Смогу ли
я?… Есть ли во мнѣ то, чѣмъ долженъ обладать вождь.
— Вождь, — взволнованно сказалъ Немо. — Вотъ
именно не то понятiе… Къ которому послѣднее время привыкли… не такъ ты
себѣ представляй и меня, какъ вождя… Вождь… Освободитель Россiи… всего
мiра отъ большевизма… Это человѣкъ, чьего имени по настоящему никто и не
узнаетъ никогда… Даже исторiя… He на бѣломъ конѣ въѣдетъ онъ
подъ ликующiе крики толпы въ освобожденную Москву… He проѣдетъ на
автомобилѣ, расцвѣченномъ нацiональными флагами по ея улицамъ… He
прилетитъ явно на аэропланѣ… Немо! — то есть — никто! Кто то,
сдѣлавшiй такъ, что перехитрилъ сатану — вотъ вождь въ этомъ
дѣлѣ борьбы съ третьимъ интернацiоналомъ… Вождь тотъ, кто
сумѣетъ отказаться отъ себя и все отдать Родинѣ… Ошибка прежнихъ
вождей была въ томъ, что они не могли перестать быть генералами и оставить
прежнiе навыки войны и перейти къ другимъ, совсѣмъ особеннымъ.
Немо оборвалъ рѣчь. Ранцевъ чувствовалъ,
какъ къ его сердцу подступило давно не испытанное волненiе. Такое точно
волненiе было, когда Государь Императоръ произвелъ его въ офицеры, такое волненiе
охватило его и въ тотъ день, когда онъ получилъ въ командованiе эскадронъ. Въ
немъ соединялись сознанiе громадной отвѣтствеыности и тяжесть взятаго на
себя долга.
— Вождь… Начальникъ… Диктаторъ… — въ какомъ то
раздумьи проговорилъ Немо и оборвалъ.
За окномъ на Парижской улицѣ продавецъ
пронзительно кричалъ. Мимо пронеслась, стрѣляя и щелкая мотоциклетка, и
ея шумъ постепенно замиралъ въ отдаленiи.
Лицо капитана Немо было блѣдно. Въ
полутемной комнатѣ его глаза были черны и огонь загорался въ нихъ и
потухалъ за длинными, загнутыми вверхъ рѣсницами.
— Вождь — исполнитель воли Господней на
землѣ прежде всего долженъ быть вѣрующимъ человѣкомъ…
Вѣрующимъ безъ компромиссовъ. Онъ долженъ совѣтоваться съ Богомъ,
какъ это дѣлалъ Моисей, и свято исполнять волю Божiю… Не молебны, не
чудотворныя иконы, не долгiя моленiя — все это для толпы, для массъ… Вождю —
короткая, но какая глубокая! — молитва утромъ и днемъ передъ началомъ всякаго
дѣла. Мысленно, про себя… молнiеносно… Отправить въ безконечную высь, къ
Престолу Господню короткую какъ бы волну молитвы и получить успокоительный
отвѣтъ, дарующiй увѣренность… Я знаю — ты такой…
Ранцевъ, молча, наклонилъ сѣдую голову.
— Честность, неподкупность, скромность и
цѣломудрiе. Когда ты получишь власть и власть огромную, а съ нею и
средства, когда однимъ росчеркомъ пера ты будешь сыпать миллiонами — какъ легко
искуситься. Какiе соблазны обступятъ тебя… Банкеты въ твою честь со льстивыми,
неискренними рѣчами. Встрѣча толпою. Крики ура… На рукахъ тебя
будутъ носить изъ автомобиля въ залъ и изъ зала въ автомобиль… Цвѣты…
Подношенiя на память… Рукоплесканiя и восторги толпы на каждое твое умное и
неумное слово… И женщины… Прекрасныя женщины съ блестящими восторгомъ,
влюбленными глазами, готовыя отдаться тебѣ только потому, что ты вождь,
что ты можешь казнить и миловать. Сколько великихъ людей споткнулось на этомъ.
Сколько размѣняло свою силу, свою власть на объятiя женщины. Забыло въ
нихъ долгъ. Библейскiй разсказъ о Самсонѣ никого не научилъ. А вотъ тебя
я знаю. Изучилъ я тебя, и знаю: тебя ни женскими чарами, ни банкетами, ни
лестью не купишь и долгу своему ты не измѣнишь. И потому я тебѣ
вѣрю, какъ самому себѣ.
Ранцевъ хотѣлъ что то возразить, но Немо
рукою коснулся его рукава и продолжалъ:
— Знаю твою скромность… Молчи… Нужна вождю и
храбрость, и какая!… По нынѣшнимъ то обстоятельствамъ совсѣмъ
необыкновенная. Войти одному безъ всякой охраны въ бушующее солдатское море и
движенiемъ руки и обаянiемъ своей храбрости остановить и прекратить начавшiйся
бунтъ… Помнишь… Дѣтство… и эта наша пѣсенка:
…«Счастья тотъ одинъ достоинъ,
Кто на смерть всегда готовъ».
Я знаю— ты смерти не боишься.
— Моею всегдашнею мечтою было и осталось — умереть
по солдатски.
— Ну, вотъ видишь. Я въ тебѣ не ошибся…
Потомъ бодрость. Вотъ будемъ мы всѣ умирать отъ голода, зноя,
изнеможенiя, усталости, а ты, вождь, съ шуткой на устахъ, точно тебя эти
лишенiя и не коснулись. Двужильный… Помнишь: Сенъ Готардъ и Суворова.
— Конечно, помню.
— Какъ онъ: — «ройте мнѣ могилу»… Чудо
богатыри, непрiятель отъ васъ дрожитъ… Побѣдимъ и горы, и природу
побѣдимъ… Всѣхъ побѣдимъ… Никакого унынiя, ибо всѣ на
тебя будутъ равняться. Я видалъ тебя полъ года назадъ, когда ты пришелъ ко
мнѣ со своимъ горемъ. Я знаю, какую тяжелую драму ты пережилъ, чѣмъ
пожертвовалъ, а бодрости не утратилъ… Въ тотъ вечеръ я оцѣнилъ тебя. Ты
настоящiй офицеръ!… Офицеръ — съ
большой буквы! И все въ тебѣ офицерское. И потому ты достоинъ быть и
вождемъ… Кого я другого такого найду, кому бы могъ вѣрить, какъ самому
себѣ?
— Но… Ричардъ Васильевичъ.. Умъ, образованiе?…
Какiя мои знанiя? Я же отлично понимаю, что та война, которую ты готовишь, не
конныхъ атакъ потребуетъ, но какихъ то сверхчеловѣческихъ знанiй… У меня
же никакихъ… «Видъ веселый, но безъ улыбки»… Рубить, колоть, скакать — вотъ и
всѣ мои знанiя.
— Въ твоихъ словахъ и отвѣтъ, годенъ ли
ты? Ты сказалъ: — моя война потребуетъ сверхчеловѣческихъ знанiй. А если
они сверхчеловѣческiя, то и недоступны человѣку, по крайней
мѣрѣ, одному человѣку. И не думай объ этомъ. Эти знанiя —
дѣло спецiалистовъ, ученыхъ. Твое дѣло сказать, чего надо
достигнуть, а какъ это сдѣлать — это уже ихъ дѣло обсудить и придумать.
Ты же выслушаешь ихъ докладъ и скажешь, годится, или нѣтъ. Кромѣ
того, ты замѣститель, а не вождь. Ты приходишь на готовое, на то, что
мною сдѣлано и тебѣ надо только ознакомиться со всѣмъ моимъ
боевымъ аппаратомъ… А главное — въ тебѣ есть, — ты не согнешься и тебя не
сломятъ ни люди, ни обстоятельства.
Капитанъ Немо подошелъ къ одному изъ шкаповъ к
досталъ изъ него такой же точно галстухъ, какой былъ и на немъ голубосинiй съ
серебрянымъ тонкимъ зигзагомъ.
— Надѣнь на себя и носи, — сказалъ Немо,
подавая галстухъ вставшему передъ нимъ Ранцеву. — У насъ нѣтъ чиновъ, и
табели о рангахъ я еще не составилъ. Но… люди привыкли къ этому и ихъ это
тѣшитъ… Генералу Чекомасову не хочется стать только поручикомъ, да и
полковнику Нордекову будетъ обидно, если я скажу ему, что онъ, какъ командиръ
роты, только капитанъ. О чинахъ я молчу. Называй кого хочешь и кому это
присвоено хоть «ваше превосходительство» мнѣ все равно… Только —
кинематографъ. Но надо все таки, чтобы люди то помнили, кто у нихъ надъ
кѣмъ старшiй. Вотъ я и придумалъ эти галстухи съ полосками. Увидятъ на
тебѣ такой — генеральскiй — какъ и у меня, и будутъ знать, что ты то же,
что и я… въ родѣ какъ бы — генералъ… Людскiя слабости, но ихъ не всегда
можно обойти.
Странное волненiе охватило Ранцева, когда онъ
принималъ отъ Немо синюю шелковую ширинку. Точно и правда въ генералы его
жаловалъ старый его другъ.
«Да что то дѣлается и въ этомъ
дѣлѣ мнѣ уготована большая и, вѣроятно, опасная роль.
Что же, съ Божьею помощью совершу все то, что мнѣ будетъ поручено».
— Идемъ со мною, я тебѣ сейчасъ докончу
общiй планъ. А потомъ можешь ѣхать въ свою роту…
V.
Они прошли въ тотъ маленькiй кабинетъ, что
былъ рядомъ со спальной капитана Немо.
Капитанъ Немо открылъ дверь, подвелъ Ранцева
къ стѣнѣ и сказалъ:
— Смотри!
Точно живое прекрасное видѣнiе явилось
Ранцеву въ громадной бѣло-зеленой съ голубыми краями картѣ
Россiйской Имперiи… Черныя рѣки прихотливыми зигзагами пробѣгали по
ней на сѣверъ и на югъ. Рыжiе горные хребты крестообразно
пересѣкали ее. По мелкой розсыпи городовъ и мѣстечекъ вездѣ
были наклеены красные, бѣлые, зеленые, малиновые и голубые кружки, лунки
и черточки.
— Война требуетъ территорiи, — сказалъ Немо. —
Вотъ она — Россiя. Она вся покрыта коммунистическими ячейками. Вездѣ есть
вѣрныя 3-му интернацiоналу части внутренней охраны, чекисты, комсомолъ,
отсюда по всей землѣ Русской идутъ доносы, слѣжка, аресты, пытки и
разстрѣлы. Чтобы уничтожить и парализовать эту хитро сплетенную,
дiавольски разумно задуманную систему, чтобы заставить мобилизовать и другую
часть населенiя и вооружить ее, безоружную — надо начать настоящую войну. Какую
же для этого надо имѣть армiю?… Многомиллiонную… Гдѣ ее взять?…
Гдѣ взять тѣ безконечныя средства, чтобы повести такую войну?… Надо
опять мобилизовать для войны едва не всю европейскую промышленность… А
гдѣ же будетъ база для такой войны? Гдѣ, откуда, изъ кого наберемъ
солдатъ для такой войны?… Кто же, какое государство на это рѣшится?…
Капитанъ Немо сталъ крутить рукоятку
подлѣ карты и смоталъ ее наверхъ. Подъ картой Россiи оказалась такая же
подробная карта Европы. Она точно такъ же была покрыта условными значками.
— Вся Европа, какъ сифилисною сыпью покрыта
коммунистическими ячейками и союзами. Эти красные кружки — смотри, какъ густы
они въ Польшѣ, Германiи, Испанiи, какъ облѣпили края Англiи, какъ
вездѣ и Есюду насѣли по фабричнымъ и портовымъ городамъ,
вездѣ, гдѣ стоятъ большiе гарнизоны — это коммунистическiя ячейки,
руководимыя изъ Москвы. Эти бѣлые треугольники — это союзы пацифистовъ и
антимилитаристовъ и тамъ разложенныя ими войсковыя части. Какъ же можетъ
воевать Европа при такихъ условiяхъ? Ея армiи одна видимость. Большевики уже
побѣдили, даже и не начиная войны. Значитъ, для борьбы съ большевиками
нужны какiе то новые, совсѣмъ особые прiемы борьбы и база, которую никто
и никогда не могъ бы отыскать. За эти пять лѣтъ, что я работаю въ этомъ
направленiи я собралъ силы и матерiалы для такой борьбы… Я устроилъ и базу.
Людской матерiалъ, я съ нимъ тебя начну теперь знакомить, можно
распредѣлить на три категорiи. Первая категорiя — помнишь я тебѣ
какъ то разсказывалъ, какъ я былъ въ Берлинѣ въ театрѣ «Варьете» и
тамъ наблюдалъ людскихъ феноменовъ. Такъ вотъ первая категорiя и составлена по
принципу такой сверхъ человѣчности людей. Это генiи, изобрѣтатели.
Это сверхъ люди. Одаренные отъ Бога. Имъ извѣстенъ весь мой планъ. Они
знаютъ, для чего они работаютъ и они сочувствуютъ моей работѣ. Въ нихъ я
увѣренъ. Да ихъ всего нѣсколько человѣкъ, изъ которыхъ
Русскiй только одинъ… Вторая категорiя — люди, являющiеся помощниками этихъ
феноменовъ первой категорiи. Они разсѣяны по всему свѣту и хотя,
оффицiально, они работаютъ для фильмоваго общества «Атлантида», возглавляемаго
капитаномъ Немо, я думаю, что они догадываются для чего они работаютъ… Наконецъ,
третья категорiя — это твоя рота. Эти до поры до времени не должны ничего знать
объ истинной сущности «Атлантиды». Дѣлаю такъ потому, что тутъ приходится
имѣть дѣло уже съ нѣсколькими сотнями людей, а набрать по
нынѣшнимъ временамъ нѣсколько сотъ человѣкъ, да еще въ
Парижѣ, которые не проболтались бы, или даже и не предали я не считаю
возможнымъ.
Капитанъ Немо спустилъ карту Россiи на ея прежнее
мѣсто.
— Какъ бы велика и сильна ни была моя техника,
— продолжалъ онъ, — все таки бороться со всею Россiей съ ея огромными
пространствами и ста сорока миллiонами населенiя было бы невозможно. И при
техникѣ настанетъ такой день, когда понадобится армiя въ старомъ значенiи
этого слова, съ пѣхотой, конницей и артиллерiей… Гдѣ мы ее
возьмемъ? Видишь эти бѣлыя точки, что точно мелкою крупою покрываютъ
Россiю.
Мѣстами гуще, мѣстами рѣже.
Это ячейки Братства Русской Правды, съ которымъ я тѣсно связанъ. Это
тѣ надежные люди, которыхъ я найду въ Россiи. Россiя кипитъ сдержанною,
нестерпимою, неслыханною ненавистью къ своимъ поработителямъ большевикамъ.
Соловки, Нарымскiй край, весь сѣверъ Россiи перенасыщены людьми, въ своей
звѣриной ненависти къ большевикамъ дошедшими до послѣдней черты.
Это пороховой погребъ. Тутъ лютый, голодный, обезсилѣвшiй отъ голода и
лишенiй, едва сдерживаемый цѣпями чекистовъ и неслыханнымъ терроромъ
народъ. Накорми ихъ, дай имъ оружiе, начальниковъ… Вотъ тебѣ готовая,
ничего не боящаяся, закаленная въ лишенiяхъ армiя… Армiя въ миллiоны людей…
Вотъ почему я и не боюсь начинать борьбу съ моими сравнительно ничтожными
денежными средствами и малыми людскими силами. И средства и людей я найду въ
Россiи… Но дѣло не въ этомъ… До побѣды, запомни это, Петръ
Сергѣевичъ, еще будетъ далеко, хотя бы и вся Россiя возстала, какъ одинъ
человѣкъ.
Капитанъ Немо опять открылъ карту Европы.
— Когда Русскiй народъ возстанетъ противъ большевиковъ
и начнетъ одолѣвать ихъ, вся красная Европа и Америка кинутся на помощь
большевикамъ. Испуганные евреи банкиры будутъ сыпать золотомъ, чтобы закупить
красную армiю 3-го интернацiонала и снова надѣть на Русскiй народъ коммунистическiя
цѣпи еврейской власти. Борьба пойдетъ не на жизнь, а на смерть и врагомъ
будетъ весь мiръ, порабощенный и запуганный коммунистами. Придется и на Европу
надѣть какой то намордникъ и ей крикнуть: — «руки прочь отъ Россiи».
Иначе въ клочья порвутъ ее жадные капиталисты
Европы, едва только вырвется она, изнемогающая и окровавленная изъ
цѣпкихъ рукъ большевиковъ… Вотъ пока и все… Продумай все то, что я
тебѣ сказалъ. Сейчасъ ты свободенъ. А съ завтрашняго дня будемъ
вмѣстѣ ѣздить по всѣмъ моимъ здѣшнимъ
учрежденiямъ и я представлю тебѣ, какъ моему замѣстителю
всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ уже теперь вмѣстѣ съ тобою
будемъ работать.
Капитанъ Немо обнялъ и крѣпко
поцѣловалъ Ранцева.
VI.
Черезъ полчаса Ранцевъ на автомобилѣ,
предоставленномъ въ его распоряженiе капитаномъ Немо подъѣзжалъ къ
большому свѣтлому гаражу, расположенному на окраинѣ Парижа.
Здѣсь — и совершенно открыто — каждое утро происходили строевыя занятiя
роты, сформированной Ранцевымъ. Здѣсь громко билъ барабанъ, раздавались
команды, дѣлали съ деревянными ружьями ружейные прiемы, здѣсь
сыгрывался хорошiй духовой оркестръ, руководимый Амарантовымъ и спѣвался
оперный хоръ Гласова.
Никого это не удивляло и не смущало.
Всѣмъ было извѣстно, что тутъ готовятся статисты большого интернацiональнаго
анонимнаго фильмоваго общества «Атлантида», законнымъ образомъ
зарегистрированнаго въ министерствѣ торговли и промышленности. Всѣ
знали, что готовится какая то военная фильма и фильма звуковая, а потому такъ
естественно было все то, что дѣлалось въ уединенномъ большомъ гаражѣ
на глухой окраинѣ Парижа.
Никакой рекламы заранѣе не
распространяли, никакихъ интервьюеровъ и репортеровъ сюда не допускали. Но и
это было понятно. Все это дѣлалось въ цѣляхъ самой хитрой и
совершенной рекламы. Секретъ долженъ былъ повысить интересъ къ фильмѣ,
которая ставилась анонимнымъ интернацiональнымъ обществомъ «Атлантида».
— Въ нашъ вѣкъ самой необузданной
рекламы, — сказалъ секретарь одного изъ директоровъ общества капитана Немо
осаждавшимъ его интервьюерамъ, — самая лучшая реклама — отсутствiе рекламы.
Это звучало парадоксомъ. Но это было
оригинально и съ этимъ пришлось согласиться.
Въ правительственныхъ учрежденiяхъ и при
заключенiи контрактовъ съ людьми объясняли, что на фильмѣ будетъ
изображена гражданская война, значитъ военное обученiе, обилiе статистовъ, вооруженiе,
можетъ быть, аэропланы, танки, пушки никого не пугали. Но… нанимаемые Русскiе
статисты скоро подмѣтили какой то особенный душокъ тайны уже некинематографической,
который вѣялъ отъ всей обстановки занятiй и набора людей. И этотъ то
душокъ волновалъ Русскихъ статистовъ, набираемыхъ въ роту.
Брали людей большой физической силы, какимъ
былъ дирижеръ оркестра полковникъ Амарантовъ, или людей исключительно ловкихъ,
сметливыхъ среди природы, охотниковъ, какимъ былъ полковникъ Ферфаксовъ, или
людей, что иазывается «отпѣтыхъ», кому «либо въ стремя ногой — либо въ
пень головой», какимъ сталъ Нордековъ. Особенно охотно брали казаковъ. Притомъ
брали людей опредѣленно ярко выраженной «бѣлой идеи», тѣхъ,
кого называли тогда «активистами». И среди этихъ то людей — предложенiй было
очень много, безработица одолѣвала Русскiе эмигрантскiе круги — брали
лишь тѣхъ, кто твердо исповѣдывалъ знаменные лозунги: —
«вѣра, царь и отечество». Этимъ въ, казалось бы, совсѣмъ
неполитическое предпрiятiе, какимъ являлось анонимное общество «Атлантида»
вносилась какъ бы политика. Избѣгали скользкихъ и гибкихъ
«непредрѣшенцевъ», не брали тѣхъ, кто по апокалипсическому
выраженiю не былъ ни холоденъ, ни горячъ, а принадлежалъ къ весьма тогда
распространенной партiи «куда вѣтеръ дуетъ» и кто говорилъ соннымъ «Обломовскимъ»
голосомъ: — «мнѣ все равно — будетъ республика, буду служить и
республикѣ, а пошлетъ Богъ царя — послужу и царю»… Брали волевыхъ людей и
не старше сорока лѣтъ, крѣпкихъ физически и здоровыхъ. Если и брали
стариковъ, то не въ строй, а на хозяйственныя должности и отмѣнно
крѣпкихъ духомъ и убѣжденiями. При заключенiи контракта бралась
подписка, съ момента погрузки не пить спиртныхъ напитковъ и не курить. Была и
еще странность: — въ формировавшейся ротѣ, два взвода были Русскiе и два
взвода иностранцы — французы и нѣмцы. И тоже это былъ народъ
крѣпкiй и стойкiй. Французы-моряки Бретонцы, всѣ католики,
нѣмцы изъ Ганновера и Померанiи.
Въ Русской полуротѣ по этому поводу шли
разговоры. Что курить не позволяютъ — это, можетъ быть, потому, что на
пароходѣ будетъ погружено много целлулоидовой пленки. Возможно — боятся
пожара. Пить нельзя — ну тоже понятно: — боятся безпорядка… А вотъ почему нужна
политическая какая то благонадежность было и совсѣмъ непонятно. Не брали
евреевъ, а это самые талантливые артисты. Брали только статистовъ, а статистки?…
Не были извѣстны имена первыхъ артистовъ и артистокъ «ведеттъ», а въ
современной фильмѣ они то и есть самое главное. Ничего не было слышно и
про сценарiй и про содержанiе фильмы.
Рота статистовъ была настоящая «штатная» рота.
Двѣсти двадцать человѣкъ. Она была разсчитана Ранцевымъ на взводы.
Во взводахъ были назначены командиры и унтеръ-офицеры, были и барабанщики и
горнисты.
Едва Ранцевъ открылъ дверь большого бетоннаго гаража,
какъ былъ оглушенъ гулкими звуками барабаннаго боя.
«Тамъ, тамъ, тамъ та тамъ», — отбивалъ
рѣдкiй,
«учебный» шагъ барабанщикъ. Щелкали подошвы
башмаковъ по ровному бетонному полу.
— Выше ногу!… Тяни носокъ!… Крѣпче
отбивай на землю, — кричалъ кто то посерединѣ манежа въ командномъ
увлеченiи. Это былъ рослый молодецъ, Донской офицеръ Аполлонъ Рубашкинъ. Его
двѣ недѣли тому назадъ «снялъ» изъ мезонъ де кутюръ, гдѣ онъ
былъ «омъ а ту феръ» Ранцевъ.
Ранцева сейчасъ же увидали. Рубашкинъ махнулъ рукою
барабанщику, въ наступившей гулкой тишинѣ, отдаваясь эхомъ, раздалась
команда:
— Шер-р-р-енга! Стой!… Смир-р-на!…
Полковникъ Нордековъ въ черной фетровой
шляпѣ съ широкими полями — такiя точно шляпы были и на всѣхъ
обучавшихся — въ синемъ пиджакѣ, тщательно «печатая» носками, что въ
штатскомъ платьѣ выходило забавнымъ, подошелъ къ Ранцеву и, приложивъ
руку къ полямъ своей шляпы, отрапортовалъ:
— Ваше превосходительство, — онъ уже
замѣтилъ зигзагообразную серебряную полоску въ галстухѣ Ранцева и
оцѣнилъ ее. Ранцевъ не остановилъ его. Онъ зналъ, что это доставляетъ
удовольствiе и самому Нордекову и всѣмъ окружающимъ, ибо напоминаетъ
прiятное прошлое и будитъ сладкiя надежды, быть можетъ, только мечты, о будущемъ.
— Ваше превосходительство, первая полурота занимается маршировкой. Въ
полуротѣ пятьдесятъ два ряда.
Посрединѣ гаража неподвижно, съ рукою у
полей шляпы, стоялъ и командиръ полуроты полковникъ Парчевскiй. Духъ дисциплины
и порядка вселился въ Парижскiй гаражъ.
Сто человѣкъ, больше все молодежь, съ
блѣдными лицами, голодными отъ питанiя по бистро и молочнымъ «чѣмъ
Богъ пошлетъ», вытянулись вдоль зала. Для большинства выправка не была
новостью. Она была только хорошо позабыта. Почти всѣ были или кадетами
или юнкерами въ Добровольческой армiи, и только самые юные выдѣлялись
мальчишески пухлыми лицами и мѣшковато опущенными плечами.
Въ углу гаража были сдвинуты гимнастическiе
приборы.
Ранцевъ, не здороваясь, — вѣдь это же
были только статисты большой фильмы! — обходилъ вдоль шеренги.
Въ глазахъ этихъ людей, — были люди и за
тридцать, — застыло то наивно испуганное, смущенное выраженiе, какое бываетъ у
взрослыхъ, штатскихъ людей,
которыхъ вдругъ поставили въ строй. Кое кто
шевелилъ руками, оправляясь отъ смущенiя. Посерединѣ гаража стоялъ
барабанщикъ. На синемъ штатскомъ костюмѣ странной казалась широкая черная
кожаная перевязь и блестящее кадло барабана. Барабанщккъ держалъ палки въ
положенiи «смирно» готовыми ударить.
— Господа, — громко и увѣренно сказалъ
Ранцевъ, — не удивляйтесь требованiямъ общества муштры и отчетливаго строя.
Фильма должна быть образцовой и войска, изображенныя въ ней, должны въ полной
мѣрѣ напоминать Россiйскую Императорскую армiю. А для этого придется
васъ помуштровать и размять гимнастикой.
Повернувшись къ Нордекову Ранцевъ спросилъ: —
довольствiе организовано?…
— Такъ точно, ваше превосходительство.
— Гдѣ у васъ кухня и столовая?…
— А вотъ, пожалуйте, рядомъ.
— Покажите мнѣ ее. Прошу, господа,
продолжать занятiя.
— Командуйте, Парчевскiй, — начальническимъ
тономъ приказалъ Нордековъ.
— Смир-р-рна… Учебнымъ шагомъ… Шаг-г-гомъ… — командовалъ
Парчевскiй.
Команда «маршъ» застала Ранцева и Нордекова за
гаражомъ.
Въ большой кухнѣ, устроенной въ
сараѣ рядомъ, было по военному чисто. У плиты, куда были вмазаны большiе
котлы, въ бѣлыхъ фартукахъ и поварскихъ колпакахъ возились дѣдъ и
внукъ Агафошкины.
При входѣ начальства Нифонтъ Ивановичъ
быстро далъ Фирсу основательный подзатыльникъ, чтобы онъ стоялъ какъ
слѣдуетъ, вытянулся у плиты и обиженный тѣмъ, что Ранцевъ съ нимъ
не здоровается, самъ отвѣтилъ:
— Здравiя желаю ваше высокопревосходительство,
(«масломъ каши не испортрiшь!»). Пробу прикажете?
— Да, дайте, пожалуйста.
Нифонтъ Ивановичъ строго метнулъ глазами на
Ранцева. Это «дайте» и «пожалуйста» звучали оскорбительно. Онъ по уставному повернулся
къ плитѣ, еще разъ толкнулъ Фирса кулакомъ подъ бокъ, на этотъ разъ,
чтобы тотъ отчетливѣй поворачивался, и, открывъ котлы, тщательно
размѣшалъ черпакомъ и налилъ въ поданные Фирсомъ судки. Пряно пахнуло
лавровымъ листомъ и перцемъ.
—Щи Донскiя, каша пшенная, — отрапортовалъ Нифонтъ
Ивановичъ, самъ подавая судки «начальству».
Ранцевъ основательно попробовалъ. Прекрасныя были
щи. Такихъ въ Парижѣ и въ «Эрмитажѣ» не всегда получишь. Онъ
посмотрѣлъ на Агафошкина. Глаза въ глаза переглянулись они и поняли другъ
друга.
— Спасибо, дѣдъ… Отмѣнныя щи…
— Радъ стараться, — весело крикнулъ дѣдъ
и подумалъ: — «вотъ это уже по нашему… A то на поди: — «пожалуйста»…
— А какъ вторая полурота?… Французы и
нѣмцы?… Довольны пищей?…
— Ну не очень, — нерѣшительно сказалъ
Нордековъ.
— Имъ, ваше высокопревосходительство,
лягушекъ, альбо этихъ самыхъ мулей подавай… A y меня рука не подымется этакую
пакость варить, котлы поганить.
— И не надо, родной. Пусть привыкаютъ къ нашей
пищѣ.
— Да другiе, ваше высокопревосходительство, и
то «бонъ, бонъ» говорятъ, по три котелка заразъ трескаютъ.
— Ну такъ до свиданiя, Георгiй Димитрiевичъ,
спасибо вамъ за порядокъ, счастливо оставаться дѣдушка.
— Счастливаго пути.
Ранцевъ пошелъ къ своему автомобилю. Нордековъ
вернулся въ гаражъ. Какъ всегда послѣ посѣщенiя начальства занятiя
не шли на умъ. Люди стояли «вольно». Офицеры сошлись посерединѣ и
разговаривали.
— А не ручкается, — сказалъ Рубашкинъ. —
Фасонъ держитъ.
— Нашего брата подтянуть надо, — сказалъ
Парчевскiй, — распустились за годы эмиграцiи, да и революцiонная отрыжка еще не
прошла.
— Все завелъ форменное… Вездѣ
нѣмецкiй порядокъ. А самъ этотъ таинственный капитанъ Немо, говорятъ,
окруженъ иностранцами, — продолжалъ Рубашкинъ.
— Вы, Аполлонъ, про начальство полегче.
Ранцева, русскаго назначилъ замѣстителемъ. А уже куда лучше! Я Ранцева
знаю: — рубаха парень. Свой братъ офицеръ…
— Вы его, Парчевскiй, не знаете, — сказалъ Нордековъ,
— онъ насъ въ баранiй рогъ согнетъ… Педантъ… Я слыхалъ, ради службы дочь
потерялъ. Жену бросилъ… У него не сердце, а дисциплина…
— Нашу Парижскую дурь развѣ только
барабаннымъ боемъ повыбьешь.
— Да вѣдь это, Парчевскiй, фильма и
только.
— Что же что фильма, — сказалъ Рубашкинъ. — Я
въ «Хаджи Муратѣ» снимался. Мозжухинъ тотъ фильмъ ставилъ. Такъ
вѣрите ли, какъ джигитовать заставлялъ. Да ни на одномъ царскомъ смотру
такъ не рисковали своими головами. Горы, скалы, чортъ знаетъ что подъ ногами.
Слетишь и костей не соберешь, а онъ: — «ходу!» — кричитъ, «лише, черти, лише!…
весь мiръ васъ увидитъ».
— Да, это можетъ быть и такъ, — задумчиво сказалъ
Нордековъ, — но увѣряю васъ, господа, тутъ собака зарыта вовсе не въ
фильмѣ. Мнѣ и Ферфаксовъ проговаривался… У меня такое, знаете,
чутье, что онъ возьметъ, да и повернетъ вдругъ на Россiю.
— Куда?… На Россiю?… Да что вы, батенька!…
— Съ ротой съ деревянными ружьями!?… Съ
оркестромъ Амарантова «пумъ, пумъ, пумъ» и съ Гласовскими пѣсенниками!?
— А вотъ увидите… Для чего бы иначе такiе
миллiоны тратить?
— Какiе же это миллiоны?… Маленькая рота… Въ
Холливудѣ цѣлые конные полки содержатъ.
— А ведеттамъ что платятъ!… По миллiону
долларовъ въ недѣлю, а у насъ и ведеттъ никакихъ нѣтъ.
— Ты, Аполлонъ, свободно за ведетту сойдешь.
— Ну, ладно, — сказалъ Нордековъ, — будетъ
болтать, по мѣстамъ, господа. Полурота смирно!
— Тамъ-тамъ-тамъ-та-тамъ, — забилъ снова
барабанъ, вбивая муштру и выбивая Парижскую дурь.
VII.
Совсѣмъ измѣнилась послѣ
этого дня жизнь Ранцева. Онъ забылъ, что ему подъ пятьдесятъ. Никогда, даже въ
школѣ, онъ не былъ такъ занятъ. Все свое горе, всю сердечную тоску онъ
забылъ. Тѣло съ его потребностями не существовало. Онъ понялъ—для кого
онъ работалъ… Для Россiи!… И по мѣрѣ того, какъ онъ знакомился съ
размахомъ организацiи, созданной капитаномъ Немо — онъ вѣрилъ въ
успѣхъ. Это было настоящее. Организацiя, какъ какой то микроорганизмъ
почковалась или какъ растенiе расло не по днямъ, а по часамъ и захватывало все
больше и больше людей:
Ранцевъ вставалъ въ пять часовъ утра.
Въ окно на третьемъ этажѣ особняка
капитана Немо мутное глядѣло небо. По ту сторону улицы высилась
сѣрая громада дома со слѣпыми, заставленными ставнями окнами и съ
крутою крышею. Чуть слышно съ перерывами гудѣлъ просыпающiйся Парижъ.
Лакей приносилъ чай, хлѣбъ и масло. Безъ
четверти въ шесть, громадный Рольсъ Ройсъ уже мчалъ его и капитана Немо по спящимъ
улицамъ Парижа.
Они ѣхали на Ile St Louis, гдѣ въ
подвалѣ, у самой набережной Сены, работалъ «интендантъ» полковникъ
Дрiянскiй. Въ просторномъ, ярко освѣщенномъ электричествомъ помѣщенiи,
на длинныхъ столахъ человѣкъ двадцать рабочихъ разбирали, чистили,
сшивали, чинили и штопали наваленное передъ ними платье и тряпье. Душный запахъ
старой одежды стоялъ въ подвалѣ.
Дорогой капитанъ Немо расказалъ Ранцеву; что Дрiянскiй
работаетъ у него уже больше трехъ лѣтъ, что имъ основаны конторы
«Кортинена, Симелiуса и К°» въ Выборгѣ, «Ермилова съ сыновьями» въ
Нарвѣ, Ухналева въ Бѣлостокѣ и графа О’Рурка въ Кишиневѣ.
Эти конторы скупаютъ у переходящихъ законно и
незаконно изъ С.С.С.Р. людей «совѣтское»
платье и всѣ мелочи ихъ «потусторонняго» быта, паспорта, документы,
форменную одежду бѣглыхъ красноармейцевъ и чекистовъ и при соотвѣтствующихъ
описяхъ отправляютъ Дрiянскому на Ile St Louis, гдѣ все это сортируется и
приводится въ порядокъ. Все, значитъ, это было нужно. Для фильмы?… Все это
распредѣлялось по районамъ, откуда что было получено и съ
соотвѣтствующими описанiями отправлялось по Сенѣ на баржахъ къ
морю. По каждому району у Дрiянскаго были свои спецiалисты. Такъ казачiй есаулъ
Востротинъ вѣдалъ вещами, поступавшими съ юга, а бывшiй прокуроръ
С.-Петербургскаго суда Демчинскiй вещами, приходивши съ сѣвера.
Дрiянскiй встрѣтилъ капитана Немо въ
дверяхъ подвала.
— Ну какъ? — спросилъ Немо.
— Какъ видите, кипитъ. Гаврила Михалычъ похвастайтесь
вашими наблюденiями.
Высокiй, очень худой отъ долгаго
недоѣданiя и непосильной работы немолодой есаулъ Востротинъ пододвинулъ
корзину, которую онъ укладывалъ, къ Немо и сказалъ:
— Вотъ, извольте видѣть, Ричардъ Васильевичъ,
на Дону шаравары съ лампасами носятъ. Фуражка красноармейца, пиджакъ сквернаго
матерiала, а шаравары съ алымъ лампасомъ. Выходитъ, живъ еще Донъ. He забылъ
дѣдовскихъ завѣтовъ. Головка гнiетъ, а корни, видать, еще
цѣлы. Только бы добраться…
Востротинъ вынулъ изъ корзины и любовно
встряхнулъ шаравары съ лампасами.
— Графъ О’Руркъ пишетъ, черезъ Братство Русской
Правды получены изъ Нижне-Чирской станицы.
Онъ отставилъ корзину и поставилъ на ея
мѣсто картонку.
— А на Кубани, Ричардъ Васильевичъ, черкеску
совсѣмъ забросили. На рубашку въ родѣ, какъ бы толстовку, гозыри
нашиваютъ. Ичиговъ и за большiя деньги не достанете.. Вѣрно и лезгинки
больше не пляшутъ, а какой нибудь «товарищескiй» фоксъ тротъ танцуютъ… Такъ это
интересно. Роешься въ тамошнемъ платьѣ, по ржавымъ карманамъ шаришь и отъ
этой, простите, вонючей прѣли, точно духъ родной идетъ. Прямо жаль и въ дезинфекцiю
сдавать… А пуговицъ стало совсѣмъ мало. Рѣдкая одежонка съ полнымъ
комплектомъ… A бѣлье!… При Государяхъ и нищiе такимъ бы погнушались… Въ ночлежкѣ
и то засмѣяли бы…
Въ разговоръ ввязался Демчинскiй.
— Я разбираю, Ричардъ Васильевичъ, платья изъ
Ленинграда. И, знаете, какiя мысли! Конечно, сословiя и классы тамъ уничтожены,
нѣтъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ. Общее такъ сказать, поравненiе, а
посмотрите ка…
Онъ досталъ изъ картонки черную рубашку.
— Посмотрите на эту толстовку. Англiйское,
или, какъ у насъ въ былое время прикащики говорили — аглицкое сукно… Штаны
какiе!… Башмаки американскiе… Это жъ прямо — буржуй!… Снято братчиками съ
убитаго комиссара… А вотъ это… Бож-же мой!… Какiя заплаты, какая штопка!…
Сѣрыми нитками по коричневому сукну. Штаны — бахрома чуть не отъ
колѣнъ начинается. Башмаковъ признакъ одинъ. Босыми пятками человѣкъ
по снѣгу шелъ. Куплено у профессора Оглоблина… Помните: — отъ «нихъ»
перебѣжалъ въ Терiокахъ. Нѣтъ, знаете, классы остались н никакого
поравненiя не произошло.
Капитанъ Немо переговорилъ съ Дрiянскимъ о
срокахъ послѣдней отправки въ портъ и, простившись съ рабочими,
поѣхалъ дальше.
Мощная машина мчала ихъ по пробуждающемуся
Парижу, мимо озареннаго весеннимъ солнцемъ собора Нотръ Дамъ, съѣхала на
лѣвый берегъ Сены, углубилась въ самую глушь пятнадцатаго Парижскаго
округа и, наконецъ, остановилась въ маленькой тихой уличкѣ. Кругомъ были
гаражи. Они стояли съ открытыми воротами, уже пустые: шофферы такси всѣ
выѣхали на работу. Сѣрые высокiе дома, населенные бѣднотою
были мрачны и унылы.
Капитанъ Немо и Ранцевъ поднялись по
лѣстницѣ безъ лифта на шестой этажъ и позвонили у квартиры, похожей
на мастерскую художника, или фотографа.
Едва они позвонили, какъ видно за дверью кто
то былъ, — ихъ спросили:
— Qui est là?…
— Господи спаси Россiю, — сказалъ Немо.
— Коммунизмъ умретъ — Россiя не умретъ, — отвѣтили
за дверью. Она раскрылась.
— Пожалуйте, ваше превосходительство, — бодро привѣтствовалъ
Немо рослый, молодцеватый человѣкъ въ синемъ «форменномъ» платьѣ.
За передней была свѣтлая мастерская. Изъ
нея вышелъ худощавый, сѣдобородый человѣкъ. Въ немъ Ранцевъ, къ
большому своему удивленiю узналъ генерала Чекомасова, ведшаго его Заамурцевъ въ
конную атаку въ Великую войну.
— Что это, Александръ Васильевичъ, — обратился
къ Чекомасову Немо — съ какими вы предосторожностями теперь работаете?
— Нельзя иначе, Ричардъ Васильевичъ,
дѣло то такое… Конечно, — фильмовое общество, да послѣ похищенiя
генерала Кутепова и отношенiя къ этому ужасному дѣлу французскихъ
властей, приходится быть вдвойнѣ осторожнымъ.
Чекомасовъ взялъ у стоявшаго за столомъ
мастерового печать, которую онъ вырѣзалъ и показалъ ее Немо.
— Какъ никакъ, Ричардъ Васильевичъ, не знаю,
конечно, какъ это по ихъ законамъ, а все таки фальшивые паспорта готовимъ. Хотя
и чужого государства.
— Когда кончите?
— И не знаю право. Только бумагу настоящую
достали. И знаете гдѣ?… Я было хотѣлъ черезъ Кортинена изъ
Финляндiи выписывать, да вы такъ торопите, a это мѣсяцы прошли бы. Такъ я
ничто же сумняшеся взялъ да и послалъ въ здѣшнее полпредство.
— И неужели получили…
— За деньги все можно. Вотъ ггосмотрите. Это
настоящiй паспортъ, а это нашъ. Наклейте только фотографiю и не отличите. Даже
руку ихъ писца поддѣлали.
— Какъ хотите, Александръ Васильевичъ, а на
этой недѣлѣ надо все это кончать и везти на пароходъ.
— Постараюсь. Главное то сдѣлано. Теперь
пойдетъ быстро.
— А какъ у Ястребова?…
— Сергѣй Алексѣевичъ, — крикнулъ
къ запертой двери Чекомасовъ, — Здѣсь капитанъ Немо. Пожалуйте сюда.
Изъ комнаты, гдѣ полы, подоконники,
стулья были завалены книгами и тетрадями, гдѣ стояли большiе ящики, тоже
наполненные книгами, появился маленькiй лысый человѣкъ въ большихъ очкахъ
въ черной роговой справѣ. Онъ привѣтливо улыбался и жестомъ приглашалъ
Немо и Ранцева войти въ его книжное царство.
— Кончаете? — спросилъ капитанъ Немо.
— Упаковкой занятъ. Дня черезъ два и отправлю.
Библiотечки на славу вышли… А вотъ, — онъ взялъ изъ кипы свѣже переплетенныхъ
одинаковыхъ книжекъ одну и показалъ ее Немо. — Это послѣдняя моя работа.
Съ полковникомъ Субботинымъ вмѣстѣ составляли. Я вамъ еще не
показывалъ. Необходимѣйшая, знаете, вещь: — словарь совѣтскихъ
словъ и терминовъ. Заучивать многое придется. Такъ они языкъ исковеркали.
Всѣ ихъ учебники имѣю. Воинскiе
уставы, милицейскiя, трамвайныя, желѣзнодорожныя, театральныя и другiя
правила, «весь Ленинградъ» за прошлый годъ, «вся Москва», сочиненiя Катаева,
Пантелеймона Романова, а Зощенки, тридцать комплектовъ забралъ, потому, знаете,
безподобное пособiе для изученiя тамошняго быта… Да томовъ болѣе тысячи
веземъ съ собою. И, смотрите, еще какую штуку я собралъ изъ разныхъ газетъ и
журналовъ.
Ястребовъ положилъ словарь на мѣсто и
взялъ небольшую тетрадку, съ наклеенными въ нее вырѣзками изъ газетъ.
— Вотъ послушайте-ка, если это да на тонъ-фильмѣ
пустить съ талантливой какой пѣвичкой, этакой Плевицкой, что ли…
И слегка нараспѣвъ, какъ говорятъ
народныя частушки, Ястребовъ сталъ читать изъ тетрадки:
— Сама садикъ я садила,
Сама буду поливать,
Не хочу свое хозяйство
Голодранцамъ отдавать.
Скоро солнышко пригрѣетъ,
Станутъ груши зацвѣтать,
Вмѣсто тракторовъ въ колхозахъ
На котахъ будутъ пахать…
— На Дону, — пишутъ, — такiя частушки
распѣваютъ. Чистѣйшая контръ- революцiя! А ну-ка представьте
себѣ такую пѣвунью, да еще, если она и хорошенькая. Остановите-ка
ее! Вы ей, поди, слово, а она вамъ десять, да какихъ!… А при ней кавалеры. Вотъ
и насаждайте при такихъ обстоятельствахъ общину. Видите, какое влеченiе къ
индивидуальному хозяйству. И это тогда, когда тамъ считаютъ идетъ
расцвѣтъ коммунизма и колхознаго хозяйства: — «вмѣсто тракторовъ въ
колхозахъ на котахъ», — чувствуете всю силу этой иронiи, — «на котахъ будутъ
пахать»…
И Ястребовъ разсмѣялся такимъ искреннимъ
веселымъ, заразительнымъ смѣхомъ, что даже и на замкнутомъ и всегда
строгомъ лицѣ капитана Немо появилась улыбка.
— А то позвольте я вямъ изъ Зощенки прочту.
Удивительное у него «отображенiе» быта. Смѣяться можно до упаду.
Но Немо торопился. У него много было еще
впереди дѣла. Онъ поблагодарилъ Ястребова, еще разъ нодтвердилъ, чтобы къ
концу недѣли все было сдано на желѣзную дорогу большой скоростью и
сталъ прощаться.
Генералъ Чекомасовъ, все присматривавшiйся къ
Ранцеву, наконецъ, узналъ его. Въ прихожей онъ задержалъ его и схватилъ за
руку.
— Ранцевъ, — шопотомъ заговорилъ онъ. — Вотъ
удивительная встрѣча! Боевой соратникъ! Вмѣстѣ вѣдь…
Вмѣстѣ… Помните, австрiйцевъ то порубили… Какъ васъ изранили…
Думали, и не выживете… Славная атака!..
И совсѣмъ на ухо добавилъ:
— Скажите, Ранцевъ?… Неужели для фильмы нужны
«липовые» паспорта?… Господи!… Да, неужели правда?… Тамъ будемъ работать?…
И, отпустивъ руку Ранцева, чуть слышно
прошепталъ:
— Даже страшно становится.
VIII.
Самому Ранцеву, по мѣрѣ того, какъ
онъ ѣздилъ съ капитаномъ Немо тоже становилось волнующе страшно.
Громадный разворотъ организацiи, привлеченiе къ ней многихъ и такихъ
разнообразныхъ людей его пугалъ. Да все это было не такъ просто: — фильмовое
анонимное общество «Атлантида»!…
Сидя въ машинѣ на мягкихъ подушкахъ и
покачиваясь съ ея ходомъ, онъ спросилъ Немо:
— Если не секретъ, скажи мнѣ, сколько же
у тебя людей занято въ Парижѣ?
— Отъ тебя у меня нѣтъ и не должно быть
секретовъ… Въ Парижѣ, — поднимая брови, — сказалъ Немо. — Нѣтъ,
милый Петръ Сергѣевичъ, во всей Францiи, болѣе того во всемъ
мiрѣ… Болѣе тысячи… Вотъ, напримѣръ, манометры для
аэроплановъ заказаны въ Нью-Iоркѣ. Палаточный лагерь для Нордековской
роты прибылъ на дняхъ изъ Бомбея, изъ Индiи… Моторы для аэроплановъ изготовляли
на заводахъ Эспано-Сьюза, Юнкерса и Фармана. И вездѣ мною приставлены
свои летчики и инженеры.
— Но почему это такъ?
— Потому, мой милый, что этого требуетъ во-первыхъ
конспирацiя, тайна, которую мы не можемъ открыть газетнымъ репортерамъ и
сдѣлать достоянiемъ толпы. А во-вторыхъ, все основано на цѣломъ
рядѣ новыхъ изобрѣтенiй. За изобрѣтателями охотятся. Подслушиваютъ
у дверныхъ скважинъ. Ловятъ на лету ихъ слова. Хорошiй инженеръ по тому, какiя
части ты заказываешь, какiе мелкiе инструменты ставишь, возсоздастъ всю машину.
Вотъ и приходится чертежи отдѣльныхъ частей машинъ посылать по заводамъ
всего мiра, чтобы самую машину то собрать окончательно… на островахъ Галапагосъ…
Впрочемъ одну я собралъ для испытанiй здѣсь и ты ее увидишь.
Изъ мастерской генерала Чекомасова они
проѣхали на тихую и скромную rue de Mouzaïa, подлѣ
расцвѣтившагося весеннею зеленью парка de Buttes Chaumont, гдѣ въ
скромной конторѣ они нашли Ферфаксова.
Загорѣлый Факсъ работалъ тамъ съ двумя
писарями.
Онъ подалъ капитану Немо для подписи
нѣсколько чековъ. Немо показалъ ихъ Ранцеву. Ихъ сумма превышала
полмиллiона франковъ.
— Каждую недѣлю такъ, — сказалъ, выходя
изъ бюро Ферфаксова, Немо. — Война требуетъ денегъ. И слава Богу, что онѣ
у меня есть… Н, конечно, медлить нельзя. Надо торопиться. Иначе и накопленныхъ
мною богатствъ не хватитъ.
Снова были улицы Парижа. Теперь было на нихъ
людно и шумно, и часто и по долгу приходилось стоять на перекресткахъ, пока не
раздастся рѣзкiй свистокъ полицейскаго и не махнетъ бѣлой палочкой
постовой городовой, приглашая поторапливаться.
Они заѣхали на склады громадной
французской оружейной фабрики. Тамъ капитану Немо показали длинные, точно
темные гробы ящики. Въ одномъ, еще не забитомъ досками въ стружкахъ на особыхъ
зарубкахъ лежали новенькiя Русскiя трехлинейныя винтовки со штыками.. Съ
глубокимъ волненiемъ, не въ силахъ сдержать своего вдругъ забившагося сердца,
смотрѣлъ Ранцевъ на эти родныя винтовки. Ложи изъ моренаго американскаго
орѣха съ красивымъ узоромъ, вороненые, черные, блестящiе отъ густой
смазки стволы, тонкiе четырехъ гранные штыки, вдающiе въ желто-матовый
цвѣтъ отъ масла затворы все такъ напоминало ему счастливые дни службы въ
Императорской армiи.
Онъ взялъ винтовку въ руку. Прiятно и привычно
легла ея тяжесть въ рукѣ. Къ скобѣ былъ привѣшенъ ея
«формуляръ».
— Кто же пристрѣливалъ? — спросилъ онъ.
Онъ поперхнулся отъ волненiя. Какъ давно онъ не держалъ въ рукѣ военнаго
ружья!
— Норвежцы, — невозмутимо спокойно сказалъ
Немо. — Вѣдь эти винтовки заказаны для Норвегiи.
И, подтвердивъ завѣдующему складомъ, что
винтовки должны быть непремѣнно на этой еще недѣлѣ сданы
капитану Ольсоне на пароходъ «Немезида», капитанъ Немо вышелъ изъ склада.
Казалось, что онъ боялся, что волненiе его спутника выдастъ секретъ.
Теперь мощная машина выбралась изъ Парижа. Они
ѣздили все утро и совсѣмъ забыли о ѣдѣ. Время завтрака
пришло и прошло. Мимо мелькали маленькiе домики предмѣстiй, аллея шоссе
разворачивалась въ безкрайнюю даль. За деревьями крутились поля и нивы.
Наконецъ, показались высокiя металлическiя мачты, линiи полукруглыхъ изъ
вулканизированнаго желѣза сдѣланныхъ сараевъ для аэроплановъ и
большое зеленое поле.
Они прiѣхали на аэродромъ.
Немо предъявилъ свой и для Ранцева
приготовленный билеты и ихъ пропустили на поле.
Это былъ часъ, когда почтовые и пассажирскiе
аэропланы давно улетѣли въ очередные рейсы, а прилетъ возвращающихся еще
не начался. На аэродромѣ
было пусто. Ученики школы и абитурiенты изъ
бывшихъ военныхъ кончили учебные полеты. Нѣсколько офицеровъ,
французскихъ летчиковъ ходили по полю
безъ дѣла. Они увидали Немо. Его
здѣсь видимо хорошо знали.
Два офицера подошли къ нему.
— Mon colonel, когда же мы полетимъ? — спросилъ
маленькiй съ худощавымъ,. загорѣлымъ лицомъ летчикъ. Его сейчасъ же
узналъ Ранцевъ по безчисленнымъ портретамъ, помѣщавшимся въ газетахъ въ
связи съ его отважными полетами.
— Отсюда? Думаю, что я больше не полечу. Аппаратъ
уже разбирается.
— Mais tu sais, — оживленно заговорилъ
летчикъ, обращаясь къ своему спутнику, шедшему рядомъ безъ фуражки. Это былъ
высокiй французъ, бѣлокурый съ тонкимъ аристократическимъ породистымъ
лицомъ. — Tu sais это же не аппаратъ, а чудо. Пойдемъ, посмотримъ… А вы, какъ вы
жестоки! Вы его уже почти разобрали. Но я видалъ, какъ на прошлой
недѣлѣ вашъ летчикъ, мосье Арановъ, леталъ. Онъ и сейчасъ тамъ
возится съ нимъ.
Онъ опять обратился къ своему товарищу.
— Представь, какъ стоялъ вотъ здѣсь,
такъ безъ всякаго шума, прямо съ мѣста, безъ разбѣга, поднялся на
воздухъ… Мнѣ даже показалось, что онъ крыльями взмахнулъ, какъ птица.
Прямо вертикально, и скрылся въ небѣ. Небо было ясное, видимость
прекрасная, а его и не видно. Точно онъ растаялъ въ эфирѣ. И черезъ полъ
часа на томъ же самомъ мѣстѣ безшумно опустился. Сейчасъ же
закатили въ ангаръ и этотъ жестокiй капитанъ Немо сталъ разбирать его.
Они шли вчетверомъ, Немо, Ранцевъ и два
французскихъ офицера, — никакъ нельзя было отдѣлаться отъ нихъ, они же
были хозяева здѣсь, — черезъ поле, поросшее молодою весеннею травою,
направляясь къ сараю, гдѣ возышсь люди и стоялъ грузовикъ. Металлическiе
удары молотка неслись изъ ангара.
— Вотъ онъ красавецъ… Авiонъ… Какъ лебедь
бѣлый, — говорилъ французскiй летчикъ. — Эге, уже и пропеллеры сняли. А
вотъ и мосье Арановъ.
Арановъ въ синей рабочей блузѣ,
перепачканной масломъ съ французскимъ ключомъ въ рукѣ вылѣзъ изъ
подъ аэроплана.
И точно: — красавецъ былъ авiонъ. Покрашенный въ
серебристо-сѣрую краску, и правда, должно быть, невидимый въ небесной
синевѣ, съ какими то особой формы крыльями, чуть напоминавшими крылья
аппарата Махокина, съ кабинкой со всѣхъ сторонъ закрытой, очевидно
приспособленной для полетовъ на громадной высотѣ, въ стратосферѣ,
онъ казался громаднымъ серебрянымъ лебедемъ… Спереди зiяло отверстiе, откуда
былъ вынутъ пропеллеръ.
— Намучаешься съ ними, — сказалъ, обтирая
масляныя руки о фартукъ, Арановъ.
Немо представилъ его Ранцеву.
— Простите, руки грязныя, — сказалъ онъ, не
беря протянутую ему руку. — Работаютъ, словъ нѣтъ — прекрасно —
интеллигентны… Но вотъ такую штуку отвинтить — цѣлый часъ ему надо.
Совсѣмъ, какъ наши хохлы медлительны. Я хочу просить васъ, на аккордъ
перейти, а то никогда не кончимъ.
— Къ субботѣ надо кончить. Всѣ
ваши остальныя машины уже погружены, — сказалъ Немо.
— Да, конечно, — сказалъ, какъ бы что то
обдумывая Арановъ.
Они обходили аэропланъ. Надъ рулевыми
приборами показалась стальная труба съ полозьями.
— A… tiens… Что это такое? — закнтересовался
бѣлокурый.
— А, въ самомъ дѣлѣ, что это
такое?… Я тогда, когда смотрѣлъ полетъ и не примѣтилъ… Такъ былъ
пораженъ видѣннымъ… Для чего это?
Немо и Арановъ молчали.
— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, —
продолжалъ разглядывать аппаратъ бѣлокурый, совсѣмъ, какъ минный
аппаратъ на подводныхъ лодкахъ.
Они заглянули поглубже въ отверстiе.
— Mon colonel, неужели вы думаете, что съ аэроплана
можно пускать управляемыя мины? Я думаю, ничего изъ этого не выйдетъ. Мина
упадетъ на землю… Какъ же она полетитъ?… Что же у ней и крылья и пропеллеръ
будутъ?…
— Я понимаю, — сказалъ бѣлокурый, —
полковникъ не хочетъ намъ говорить. Это секретъ… Но это же поразительно.
Арановъ, все время мрачно молчазшiй,
рѣшительно полѣзъ подъ аппаратъ, гдѣ стучалъ молоткомъ
французъ рабочiй. Немо повернулся къ знаменитому летчику.
— Mon capitaine, поѣдемте съ нами… на
острова Галапагосъ… Тамъ вы сколько угодно будете летать на моихъ аппаратахъ.
Тамъ изучите и мины.
Летчикъ смутился.
— He знаю право, mon colonel, какъ это
устроить? Вѣдь у васъ же тамъ кинематографическое общество?… Я офицеръ
воздушнаго флота республики… Et vous savez…
— Да, — сухо и рѣзко сказалъ Немо — это
кинематографическое общество и больше ничего. Постановка грандiознѣйшей,
многометровой фильмы… И, конечно, вамъ неудобно ѣхать туда. Тамъ будетъ
поставлено «Торжество сатаны»… «Манитекелъ фаресъ»… Vous comprenez… Et voilà
tout…
— Да… да… Я понимаю… Но послѣ, когда вы
вернетесь, вы мнѣ дадите летать?
— Съ особеннымъ удовольствiемъ… Да вѣдь
ваше министерство знакомо съ моими аппаратами… Я передалъ ему всѣ
чертежи.
— Я знаю… Такой удивительный, такой
благородный поступокъ. Вы, Русскiе, всегда были наши безкорыстные друзья.. Мы
этого никогда не забудемъ.
Капитанъ Немо попрощался съ летчиками. Когда
его машина выѣзжала съ аэродрома, онъ тихо, какъ бы про себя сказалъ:
— Можете и забыть, какъ забыли многое… Но только
не мѣшайте, не мѣшайте, не мѣшайте… А помощи хоть и не надо…
IX.
На другой день Ранцевъ, какъ и всегда провелъ
все утро на занятiяхъ въ Нордековской ротѣ. Капитанъ Немо приказалъ ему
къ завтраку быть дома.
— Послѣ завтрака мы поѣдемъ съ
тобою верхомъ, — сказалъ Ранцеву капитанъ Немо.
— Верхомъ? — съ удивленiемъ переспросилъ Ранцевъ.
Ему казалось, что онъ ослышался. Капитанъ Немо и верховая ѣзда не
вязались въ его представленiи. Онъ не видалъ Немо на лошади съ самыхъ дней ихъ дѣтства.
— Да, милый Петръ Сергѣевичъ,
благодаренiе Господу, что во Францiи есть еще такiе уголки, куда можно
добираться только верхомъ, или пѣшкомъ. Тамъ покажу я тебѣ
нѣчто весьма интересное.
Послѣ завтрака они усѣлись въ
автомобиль. Оба были одѣты для верховой ѣзды. Ранцевъ въ свой старый
костюмъ наѣздника, Немо въ изящный верховой костюмъ, сшитый у лучшаго
англiйскаго портного.
Черезъ двадцать минутъ ѣзды по
городскимъ улицамъ они вынеслись за укрѣпленiя, Машина ровно гудѣла.
Древесные стволы мелькали съ такою быстротою, что у Ранцева голова кружилась.
Иногда шофферъ подавалъ протяжный гудокъ, и мимо мелькалъ точно стоящiй на
мѣстѣ обгоняемый ими несущiйся полнымъ ходомъ автомобиль. Машина
шла не колеблясь. Отъ быстраго хода у Ранцева замирало сердце и сладко становилось
во рту.
Мелькали мимо дома мѣстечка. Автомобиль
сдержалъ ходъ. Ѣхали по узкой кривой уличкѣ. Лавочки, окно,
заставленное бутылками, собака испуганно прижавшаяся къ стѣнѣ,
проносились, какъ во снѣ. И опять просторъ. За аллеями нацiональной дороги
закрутились, разворачиваясь, поля и нивы, мелькнули вдали большiе каменные
сараи, фабричныя трубы, роща, кусты…
Шофферъ не разъ ѣздилъ по этому пути.
Онъ хорошо зналъ дорогу. Увѣренно онъ сдержалъ ходъ машины. Лѣвая
рука высунулась изъ окна, замотала кистью, машина круто свернула на плохое,
изрытое, «коммунальное» шоссе, покачнулась и стала спускаться въ оврагъ. Вправо
тянулся каменный заборъ замковаго парка, влѣво были огороды, парники,
вьющаяся роза ползла по рѣшеткѣ. Показались деревенскiе узкiе
двухэтажные домики. Пахнуло скотомъ, соломой. Переѣхали по мосту черезъ
ручей, поднялись наверхъ, проскочили мимо длиннаго зданiя мэрiи и уперлись въ
заборъ съ сѣрыми покосившимися деревянными воротами съ калиткой.
Здѣсь остановились. Шофферъ вылѣзъ изъ кабины и пошелъ отворять
дверцу. Ранцевъ выпрыгнулъ первый. Отъ быстрой ѣзды у него кружилась
голова.
У калитки звонко на стальной пружинѣ
брякнулъ колокольчикъ. Они вошли на большой дворъ старинной фермы. Каменный
домъ съ безжизненно повисшими, на половину оторванными ставнями стоялъ,
полуразвалившiйся и точно необитаемый. Противъ него проволочная сѣтка
отдѣляла отъ двора болыной птичникъ. Двѣ высокiя развѣсистыя
липы бросали голубую тѣнь. За каменною стѣною яблони въ густомъ бѣломъ
цвѣту тихо роняли легкiе лепестки за заборъ.
Штукъ двѣсти молодыхъ пѣтуховъ,
холеныхъ, чистыхъ, бѣлыхъ Легхорновъ, точно эскадроны кавалергардовъ въ
красныхъ шапочкахъ, любопытствуя, сгрудились у рѣшетки.
Высокое, яркое солнце согрѣвало дворъ
весеннимъ тепломъ… Миръ, тишина, покой и безлюдье были кругомъ.
X.
Изъ за высокй стѣны, отъ яблонь,
красивый, высокiй, женскiй голосъ закричалъ, раздѣляя слоги:
— Га-ли-на-а!… Гали-на!…
Тоненькiй голосокъ отозвался совсѣмъ
близко за заборомъ.
— Что, мамулечка?…
— Посмотри, кто тамъ пришелъ?
Деревянная калитка въ углу у каменнаго сарая
прiоткрылась и въ розовомъ платьѣ бѣлокурая дѣвочка — волосы
убраны въ двѣ косы — выглянула изъ за нея, точно показалась оттуда
расцвѣтающая роза. Съ розоваго личика голубо-сѣрые глаза
внимательно посмотрѣли на Немо.
— Ахъ, это вы, — привѣтливо и радостно
сказала она и скрылась за калиткой.
— Мамочка, это капитанъ Немо и съ какимъ то
еще человѣкомъ.
Молодая женщина вышла изъ калитки. Золотые, густые,
длинные волосы по крестьянски были забраны подъ красную кичку, сдѣланную
изъ платка. Лицо, покрытое нѣжнымъ весеннимъ загаромъ и голубые глаза
привѣтливо улыбались. Она была съ голыми въ большихъ деревянныхъ сабо
ногами. Розовое ситцевое платье было спереди прикрыто передникомъ. Она обтирала
объ него руки.
— Простите, руки грязныя. Въ огородѣ
работала. Вы сейчасъ и поѣдете, Ричардъ Васильевичъ? — сказала она .
— Да, Любовь Димитрiевна, какъ всегда.
— Вы поѣдете вдвоемъ?
— Да. Позвольте познакомить васъ — мой помощникъ
Петръ Сергѣевичъ Ранцевъ.
— Очень рада… — Она повернулась къ огороду и
крикнула. Ея голосъ эхомъ отдался о стѣны сарая.
— Ерема!… Ерема, иди сѣдлать
обѣихъ…
За сараемъ на каменномъ дворѣ послышался
стукъ подковъ.
Женщина, какъ красивая картина стояла на
фонѣ темной калитки подъ бѣлыми яблонями.
— Почему ваша дочь не въ школѣ? —
спросилъ Немо.
— Я взяла ее… Весна, знаете… Работы въ
огородѣ и на птичникѣ очень много. Намъ вдвоемъ съ мужемъ не
управиться.
Она спокойно и увѣренно держалась въ
своемъ крестьянскомъ платьѣ съ голыми ногами передъ прекрасно
одѣтымъ Немо. Ранцевъ понялъ — передъ нимъ — «барыня», значитъ, и мужъ ея
тоже «баринъ». Вѣрнѣе всего такой же офицеръ, какъ и онъ.
— Позвольте я пойду помочь сѣдлать
вашему мужу, — сказалъ онъ.
— Нѣтъ зачѣмъ же? Совсѣмъ
этого не нужно. Онъ управится и самъ.
Но Ранцевъ настоялъ на своемъ. Галина повела
его. Они прошли черезъ сарай, заваленный сѣномъ. Въ раскрытыя его двери
показался мощеный заросшими травою плитами каменный дворикъ. Тамъ подъ
навѣсомъ высокiй худощавый человѣкъ въ зеленоватой шерстяной
рубашкѣ и длинныхъ штанахъ изъ синей дрели, какiе носятъ французскiе
крестьяне, зачищалъ лошадей.
Лошади были крупныя англо-нормандскiя бурыя
кобылы. На шаги Ранцева человѣкъ этотъ обернулся. Къ своему большому
удивленiю Ранцевъ призналъ въ немъ своего знакомаго. Это былъ полковникъ
Пиксановъ. Ранцевъ видалъ его на одномъ маленькомъ собранiи въ Парижѣ,
гдѣ говорилось о масонахъ и гдѣ Пиксановъ выступалъ оппонентомъ
генерала Ловчилло. Тогда Пиксановъ былъ Парижскимъ шофферомъ на такси.
— А, — улыбаясь сухимъ, плоскимъ, бритымъ,
рыбьимъ лицомъ, сказалъ Пиксановъ, — и вы нанялись, значитъ, къ нашему хозяину.
Это вы и поѣдете?
— Да, я и поѣду съ Немо. Позвольте я
вамъ помогу.
— Да что помогать, я и одинъ управлюсь.
Впрочемъ, вамъ это дѣло тоже знакомое. Сѣдлайте свою. Славная кабылица…
А прыгаетъ, хоть сейчасъ на конкурсъ въ Гранъ-Палэ…
— Вы давно здѣсь?
— А вотъ, извольте видѣть… Когда
покупали лошадокъ, гривки у нихъ, по здѣшней модѣ, были острижены.
Сейчасъ, видите, какъ ладно легли… Значитъ полгода. И цыплятъ, видали, какихъ моя
жена развела… А изъ инкубатора вмѣстѣ съ нею выводили… Вотъ оно время
то какъ пронеслось.
— Вы тутъ на какихъ же роляхъ?
— Именно на роляхъ… Мѣтко изволили
сказать, — накидывая сѣдло на лошадь, желчно сказалъ Пиксановъ. — Чудеса
въ рѣшетѣ. Ничего не пойму. Какъ?…
Почему? Зачѣмъ?,.. Какая логика?…
Сначала было думалъ: — благотворительность… Вотъ, молъ, милый человѣкъ,
истрепалъ нервы на такси, жена теряетъ зрѣнiе на «кутюрѣ» — получай
участокъ земли и живи.
Пиксановъ замолчалъ, подтягивая подпруги.
— Объясните мнѣ, Ранцевъ, — продолжалъ
онъ, набрасывая на голову лошади уздечку, — почему это всѣ богатые
Русскiе непремѣнно чудаки. Вѣдь хозяинъ нашъ Русскiй, до мозга
костей Русскiй, такой, какъ вы, какъ я, а вотъ — капитанъ Немо… Да еще и
Ричардъ!… А, какая логика?… Я сначала даже пугался… Да не большевикъ ли?… Или
чего добраго вдругъ да я къ масонамъ попалъ!… Вотъ вѣдь — веселенькая
исторiя вышла бы! Да нѣтъ!… Ничего подобнаго!… И вотъ васъ вижу… Ну, вы
то на грязное дѣло не пойдете… Достаточно я наслышанъ про васъ. Такъ
зачѣмъ онъ это?…
— Это его дѣло.
— Конечно такъ… Насъ не касаемо… Богатый
страсть. Видали машину… Я знаю, такая машина тысячъ двѣсти плочена.
Лошадей приказалъ купить. Ѣздить, молъ будетъ въ Булонскомъ лѣсу. Я
докладываю — лучше подождать до весны, тогда на аукцiонѣ парфорсныхъ
лошадей можно задешево купить. Нѣтъ… Послалъ къ Ротшильду, отобралъ
самыхъ что ни на есть лучшихъ и, не торгуясь, взялъ. Поставили въ манежѣ
у госпожи Ленсманъ. Тридцать франковъ въ сутки за пансiонъ платитъ…
Недѣлю постояли, потомъ мнѣ приказъ — перевести на ферму… Тутъ съ
недѣлю постоятъ и опять къ Ленсманъ.. Чудеса, да и только..
— Вы говорите, къ Ленсманъ?
— Да… Вѣдь и вы тамъ не такъ давно
работали?
— Ну, а дальше что?
— Дальше еще чуднѣе… У насъ здѣсь,
представьте, лѣсъ арендованъ. Двадцать четыре квадратныхъ километра. Для
охоты… Кругомъ стража. He съ этихъ мѣстъ… И никого не пускаютъ туда… Даже
и меня. Я поѣду съ нимъ только до калитки, а тамъ, поклонъ: — «можете
быть свободны, вернусь часа черезъ три». И ночью одинъ возвращается.
Согласитесь, немного странная охота. Что онъ? He на любовныя же свиданiя
ѣздитъ?… Да и съ кѣмъ?… Съ лѣсачихой съ какой что ли?…
Лѣсъ — глушь непролазная, — не повѣрите, что такъ близко отъ Парижа
и такая дичь. Если поѣдете туда, глядите, еще русалокъ какихъ
встрѣтите. Знаете, если къ вамъ тамъ выйдетъ волшебница Наина, или
увидите голову великана въ шеломѣ, не удивляйтесь… Да вѣдь это
снобизмъ какой то! Это Эдгаромъ Поэ какимъ то пахнетъ… А денегъ то сколько на
это ухлопано!… Фальшивыя ассигнацiи онъ тамъ что ли печатаетъ?… А подумайте,
если бы да деньгамъ то этимъ да иное какое употребленiе сдѣлать? На
студентовъ, или старикамъ богадѣльню устроить?… Нѣтъ, это
иностранцы могутъ, а Русскiй, онъ непремѣнно самодуръ… Чудитъ… Моему
нраву не препятствуй… А такъ. между прочимъ, премилый человѣкъ. Вы не
знаете, почему это такъ?… Впрочемъ, если связаны словомъ — прошу не говорить.
— У него кинематографическое общество
«Атлантида».
— Какъ же, слыхалъ… Нашихъ много къ нему
нанялось… Такъ вѣдь онъ съемки то на островахъ какихъ то собирается
дѣлать? Къ чему ему этотъ лѣсъ?
Пиксановъ мокрой щеткой примочилъ гривки лошадямъ.
— Ну, идемте. Наше дѣло, въ концѣ
концовъ, маленькое… Скачи, враже, якъ панъ каже… А все таки лѣсъ… Ѣзда
по ночамъ… Зачѣмъ?… Почему?… Какая логика?…
XI
Капитанъ Немо и Ранцевъ выѣхали за
ворота. Пустой автомобиль стоялъ въ тѣни каштановъ. Шофферъ ушелъ внизъ
въ деревню. Кругомъ такъ непривычная
Парижскимъ жителямъ была тишина. Деревня
стояла, какъ декорацiя, какъ сонное видѣнiе. Точно и жизни въ ней не
было.
За угломъ садовой ограды свернули влѣво
и попали на глинистую грунтовую дорогу съ глубокими колеями. Онѣ по
французскому обычаю были засыпаны
всякою дрянью. Битая посуда, бутылки, жестянки
отъ консервовъ, рваныя велосипедныя и автомобильныя шины, проволока, старый
желѣзный ломъ, гвозди и кирпичи валялись въ нихъ. Даже умудрились
втиснуть въ колеи сломанную дѣтскую колясочку, и она безпомощно торчала
колесами кверху.
Пошли рысью. Сильная и рослая кобыла Ранцева
шла легко, попрашивая повода. Немо тяжеловато приподнимался въ
сѣдлѣ, но сидѣлъ хорошо, чуть развернувъ носки.
Лошади бѣжали, весело отфыркиваясь.
Мухи, налипшiя было на нихъ, отстали. Дорога уперлась въ аллею изъ
цвѣтущей бѣлой акацiи. Пряный духъ сладко кружилъ голову. Онъ напомнилъ
Ранцеву Крымъ и время его поправки отъ раненiя. Очень хорошъ былъ день,
клонившiйся къ вечеру.
— Давненько я не ѣздилъ, — сказалъ,
переводя на шагъ и отдуваясь Немо. — А все таки хорошо насъ училъ въ
Михайловскомъ училищѣ генералъ Петраковъ.
He разучился я ѣздить. Никогда не
думалъ, что это мнѣ понадобится, да еще здѣсь.
Аллея уперлась въ лѣсъ. Калитка, обвитая
проволокой преградила путь. Всюду на деревьяхъ на видныхъ мѣстахъ
висѣли надписи: — «chasse gardée», «défence d'entrer au
public», «piѐges tendues».
Ранцевъ спрыгнулъ съ лошади и открылъ калитку.
Густой лѣсъ былъ передъ ними. Дубы великаны, едва опушенные молодой, еще
розового оттѣнка листвой росли среди молодыхъ буковъ. Ежевика, какъ лiаны
цѣплялась за нихъ. Старый темно-бурый папоротникъ, поломанный непогодой
глушился молодыми блѣдно зелеными побѣгами. Широкая зеленая
просѣка вела вглубь лѣса. Временами ее пересѣкали другiя
просѣки. Онѣ заросли травою и кустами. Канавы, отдѣлявшiя ихъ
отъ лѣса, заплыли иломъ.
Фазанъ пѣтухъ, протянувъ вдоль земли
золотисто пестрый хвостъ, съ тревожнымъ, присвистывающимъ квохтаньемъ бѣжалъ
передъ лошадьми и вдругъ съ трескомъ крыльевъ взлетѣлъ, яркiй, блестящiй,
золотой въ солнечномъ лучѣ и полетѣлъ прямымъ полетомъ между
частыхъ стволовъ.
Кролики сновали поперекъ дороги, сверкая
бѣлыми кончиками пушистыхъ хвостовъ.
Дорога стала топкой. Да, сюда и на
велосипедѣ нельзя было пробраться. Верхомъ, или пѣшкомъ… Лѣсъ
разступился. Вправо была большая поляна, густо заросшая папоротникомъ.
Рѣдкiя березы стояли по ней.
— Смотри, — сказалъ Ранцевъ, — дикiя козы.
— Да, знаю, тутъ есть всякаго звѣря
достаточно, — равнодушно отозвался Немо. — Тутъ я кабановъ какъ то видалъ.
Старая королевская охота тутъ была.
Козелъ и двѣ козы паслись шагахъ въ
двухстахъ отъ нихъ. Они подняли головы, настремили уши, постояли мгновенiе въ
нерѣшительности, и пошли легкимъ упругимъ, неслышнымъ скокомъ, давая
громадные прыжки черезъ невидимыя препятствiя и скрылись въ лѣсу. Тамъ въ
темной чащѣ остановились они и долго провожали испуганнымъ взглядомъ всадниковъ.
У высокаго вѣкового дуба было то, что
фраицузы называютъ «étoile». Здѣсь просѣки сходились
звѣздообразно. Въ глубинѣ одной было видно небольшое каменное
зданiе, окруженное стѣною. Немо направился къ нему.
— А хорошо было охотиться въ королевскiя
времена, — сказалъ онъ. — Видишь въ каменной стѣнѣ бойницы по
направленiю просѣкъ. Кабана гнали по нимъ, стой и стрѣляй изъ-за
бойницы въ полной безопасности. Положимъ, тогда и ружья были…. Кремневыя…
Въ розовыхъ лучахъ, спускавшагося къ вершинамъ
деревьевъ солнца красивымъ и загадочнымъ казался домикъ старинной архитектуры.
Онъ былъ ветхъ и необитаемъ. Сѣрыя стѣны облупились. Щербатый
камень осыпался. На окнахъ не хватало стеколъ. Оборванныя ставни висѣли
съ жалкою старческою безпомощностью.
Правъ былъ Пиксановъ: — волшебница Наина
должна была обитать здѣсь.
Капитанъ Немо слѣзъ съ лошади. Ранцевъ
спрыгнулъ со своей и принялъ лошадь Немо.
— Привязывай у ограды, — сказалъ Немо, — да
привязывай покрѣпче… Муха появилась.
Ранцевъ поднялъ стремена по путлищамъ вверхъ и
привязалъ лошадей. Немо наблюдалъ за нимъ.
— Дѣйствительно, ты педантъ, — сказалъ
онъ съ ласковой улыбкой.
Отъ домика раздавалось глухое гудѣнiе,
точно тамъ гдѣ то въ глубинѣ его работалъ сильный моторъ.
На двери висѣло большое желѣзное
кольцо. Немо постучалъ имъ. Эхо этого стука звучно отозвалось по лѣсу.
Прошло около минуты. За калиткой кто то неслышно
подошедшiй старческимъ голосомъ, какъ говорятъ возгласы священники,
проговорилъ:
— Господи, спаси Россiю!
— Коммунизмъ умретъ — Россiя не умретъ; —
отвѣтилъ Немо. — Откройте, отецъ Ѳеодосiй.
Желѣзо замка заскрипѣло. Калитка
медленно раскрылась. За нею показался дворикъ, мощеный камнемъ.
На дворикѣ стоялъ высокiй Русскiй монахъ
съ сѣдою бородою, въ черной рясѣ и скуфейкѣ.
Чѣмъ — не волшебница Наина?…
XII.
Какъ въ нѣкiй скитъ вошли Немо и Ранцевъ
въ жилище старца въ королевскомъ лѣсу Notre Dame. Горница съ каменнымъ
поломъ была увѣшана иконами. Подъ лампадкой стоялъ легкiй переносный
аналой. Книга въ темномъ кожаномъ переплетѣ лежала на немъ. У стѣны
было бѣдное, жесткое, скудное монашеское ложе. Пахло лампаднымъ масломъ,
воскомъ и ладаномъ и, такъ не отвѣчая этой обстановкѣ кельи, откуда
то снизу, непрерывно и гулко гудѣлъ моторъ машины.
— Пожалуйте, Ричардъ Васильевичъ, —
привѣтливо сказалъ монахъ и, неслышными шагами обогнавъ вошедшихъ,
открылъ скрытую, почти иевидимую дверь въ глубинѣ кельи.
Передъ ними была довольно большая комната съ
однимъ окномъ. И первое, что бросилось въ глаза Ранцеву въ ней — большой
радiо-аппаратъ какой то особой невиданной формы. Отъ него поднялись
навстрѣчу Немо два человѣка. Одинъ, высокiй старикъ съ окладистою,
«лопатой», сѣдою бородою, худощавый и красивый сѣверною не русскою
красотою, другой бритый полный человѣкъ съ актерскимъ лицомъ.
— Густавъ Эрнестовичъ, — сказалъ Немо, — я къ вамъ
со своимъ помощникомъ и замѣстителемъ. Петръ Сергѣевичъ, это нашъ
радiографистъ Густавъ Эрнестовичъ Лагерхольмъ, великiй изобрѣтатель, а
это его помощникъ Адамъ Петровичъ Шулькевичъ. Тебѣ много придется
работать съ ними и слышать ихъ, а видѣть придется рѣдко.
И, обращаясь къ Лагерхольму, Немо добавилъ:
— Какъ у васъ, не началось?
Сѣдобородый финнъ посмотрѣлъ на
большiе старомодные часы, висѣвшiе у него на животѣ на золотой
цѣпи и чисто по русски, безъ акцента, сказалъ:
— Еще полчаса.
— Мы пока пройдемъ къ Вундерлиху, — сказалъ Немо.
— Есть, — по морскому сказалъ Лагерхольмъ и за
тяжелое кольцо въ полу поднялъ люкъ. Потянуло душнымъ аптечнымъ запахомъ.
Желтый свѣтъ керосиновой лампы показался тамъ.
— Негг Wunderlich, — крикнулъ по нѣмецки
Лагерхольмъ, — къ вамъ капитанъ Немо. Давайте, прошу васъ, лѣстницу.
Грубая, тяжелая лѣстница показалась у
отверстiя. Желѣзные крючья отыскали скобы и зацѣпились за нихъ.
Лающiй голосъ раздался изъ подземелья:
— Bitte sehr.
Немо, за нимъ Ранцевъ, спустились въ
подземелье.
Тамъ, при скудномъ свѣтѣ лампы,
Ранцевъ увидалъ большую лабораторiю. По грубо сдѣланнымъ полкамъ стояли
колбы, реторты и склянки съ желтой жидкостью, накрытыя стеклянными пластинками.
На полу были ящики и жестянки съ уложенными въ нихъ маленькими скляночками. Отъ
большого стола медленно приподнялась странная фигура.
Если бы Ранцевъ не ожидалъ увидѣть
здѣсь профессора Вундерлиха, если бы фигура эта не была одѣта въ
синiй просторный пиджакъ и такiе же штаны, Ранцевъ подумалъ бы, что въ
подземельи ихъ встрѣчаетъ обезьяна. Передъ нимъ былъ глубокiй старикъ.
Низкiй, совершенно обезьянiй продолговатый черепъ темнаго цвѣта былъ
точно шерстью покрытъ неопрятными рѣдкими буро-сивыми волосами. Щеки и
подбородокъ обросли шерстью. Широкiй плоскiй носъ торчалъ большими открытыми
ноздрями, и Ранцевъ не могъ разобрать, — онъ таки стѣснялся разсматривать
уродство — былъ этотъ носъ провалившимся отъ болѣзни, или онъ такой былъ
отъ природы. Крошечные, узкiе, звѣриные глаза смотрѣли умно и остро
изъ подъ глубокихъ глазницъ, поросшихъ косматыми бровями. Сходство съ обезьяной
усугублялось еще тѣмъ, что человѣкъ этотъ не стоялъ прямо, но
нагнулся надъ столомъ, опираясь на него руками. Рукава пиджака были высоко
засучены и обезьяньи длинныя руки густо покрыты волосами. Вундерлихъ
смотрѣлъ, часто мигая, на Немо. Въ острыхъ его глазахъ свѣтился умъ
и вмѣстѣ съ умомъ была и животная тупость ничѣмъ непоколебимой
воли.
Ранцевъ отъ Немо зналъ исторiю профессора
Вундерлиха. Это, какъ говорилъ Немо, былъ цѣннѣйшiй изъ артистовъ его
«варьете». Это былъ знаменитый химикъ, спецiалистъ по минеральнымъ,
растительнымъ и бактерiйнымъ ядамъ. Вскорѣ послѣ окончанiя войны,
онъ изобрѣлъ ядъ, совершенно незамѣтный, который дѣлалъ людей
сумасшедшими. Ему надо было провѣрить его дѣйствiе на опытахъ. Но
нормальный кроликъ, или свинка, или ненормальный, кто ихъ узнаетъ? Опыты надо
было сдѣлать надъ людьми. Профессоръ Вундерлихъ обратился къ
правительству съ просьбой предоставить ему для опытовъ преступниковъ. Ему
отказали. Тогда онъ сталъ доказывать, что, если его ядъ примѣнить къ
челсвѣку ненормальному, то онъ излѣчивается отъ своей
ненормальности и дѣлается нормальнымъ и здоровымъ. Въ пространномъ
докладѣ онъ доказывалъ, что коммунисты являются людьми умалишенными и
просилъ предоставить ему для испытанiя нѣсколько «индивидуумовъ»
коммунистической партiи. Его докладъ — въ то время Германiя особенно носилась
съ Совѣтами — приняли за насмѣшку и его выслали изъ Германiи. Онъ
направился во Францiю и здѣсь, лѣтъ пять тому назадъ,
встрѣтился съ капитаномъ Немо. Тотъ далъ ему опредѣленныя заданiя,
и Вундерлихъ согласился работать у Немо, подъ его руководствомъ.
Ранцевъ осторожно вглядывался въ этого
страшнаго человѣка, для котораго внѣ науки не существовало ничего и
который готовъ былъ ради торжества своихъ изысканiй и открытiй въ области ядовъ
погубить все человѣчество.
Ранцеву, хотя онъ уже слышалъ скрипучее «bitte
sehr», казалось, что это существо, онъ не могъ признать его человѣкомъ, —
не можетъ говорить по человѣчески, и онъ весьма удивился, когда Вундерлихъ
заговорилъ, правда, на ломаномъ, но все таки на Русскомъ языкѣ.
— Я все кончаль, — сказалъ Вундерлихъ, —
широкимъ жестомъ показывая на ящики, уложенные въ обыкновенные дорожные
чемоданы.
Восторженное пламя загорѣлось въ
крошечныхъ, обезьяньихъ глазкахъ профессора.
— О, зачѣмъ я не изобрѣталъ это
двѣнадцать лѣтъ тому назадъ!.. Вся война капутъ… Отъ этой маленькой
дозы тысяча человѣкъ… Десять тысячъ человѣкъ… Весь Парижъ капутъ…
Вотъ онъ «капучiй» газъ!
Онъ сталъ пространно объяснять Немо, что его
препараты не соединены. Онъ говорилъ по нѣмецки и Ранцевъ плохо понималъ
его.
— Это все можно на какой угодно таможнѣ
показать. Самые безвредные препараты. Ну, просто — краска.
— Вы что же, — сказалъ внимательно его
слушавшiй Немо и, взявъ со стола блокъ-нотъ и перо, сталъ писать рядъ формулъ.
Профессоръ Вундерлихъ нагнулся надъ Немо.
— Вы генiй!.. Вы знаете больше, чѣмъ
я!.. Вамъ меня не надо приглашать. Вы навѣрно работали спецiально по
токсинамъ, — закричалъ въ дикомъ восторгѣ, поднимая руки кверху, Вундерлихъ.
— Значитъ, вѣрно?
— Какъ въ аптекѣ.
— Послушайте, Herr Wunderlich, на будущей
недѣлѣ, во вторникъ… Запомните, во вторникъ… Вы опять забудете…
— Я лучше буду записывать. Лучшѣе
будетъ.
— Запишите: — во вторникъ сюда прiѣдетъ
арба съ хворостомъ. Вы всю свою лабораторiю поставьте въ ящикахъ подъ хворостъ.
Повезутъ свои люди. Они вывезутъ изъ лѣса и сдадутъ на грузовикъ. Онъ
доставитъ прямо на пароходъ. Вы поѣдете по желѣзной дорогѣ.
— Н-нэтъ… — съ силой сказалъ профессоръ, — я самъ
ѣхаль съ арба. Я самъ ѣхаль съ грузовикъ… Я ни-когда съ своей
лабораторiей не разсталься.
— Ричардъ Васильевичъ, — раздался голосъ
Лагерхольма въ люкъ, — если кончили съ профессоромъ, пожалуйте наверхъ. Сейчасъ
начинается…
Капитанъ Немо попрощался съ обезьяной и вышелъ
изъ подземелья.
XIII.
Аппаратъ безпроволочнаго телефона, такой
ничтожный, тихiй и ненужный въ этой лѣсной хижинѣ, когда онъ былъ
нѣмой, шипѣлъ и трещалъ, издавая странные, щелкающiе звуки.
Лагерхольмъ направлялъ эбонитовые кружки съ бѣлыми стрѣлками и
цифрамй. Щелчки прекратились. Послышался ровный, глухой шумъ, потомъ тихое
сипѣнiе, и ясный голосъ, точно тутъ подлѣ былъ человѣкъ,
произнесъ: — «Алло, алло… говоритъ Москва».
Ранцеву и раньше приходилось слышать
радiо-аппараты. Гдѣ ихъ только тогда не было! Каждое бистро заливалось
пѣснями Новарро и фоксъ-тротами, каждое кафе въ полдень диктовало
биржевыя данныя и давало короткую политическую сводку. Ранцевъ зналъ этотъ,
точно приглушенный, звукъ человѣческаго голоса и его, то ясно, то
неразборчиво произносимыя слова. И всегда ему было непрiятно слышать вдругъ
непостижимымъ образомъ возникающiе звуки и никогда они его не волновали.
Сейчасъ глубокое волненiе охватило его. Почти мистическiй страхъ заставилъ
сильно забиться сердце.
«Сейчасъ говоритъ Москва».
Тринадцать лѣтъ онъ не слыхалъ, какъ
говоритъ Москва. Тринадцать лѣтъ Москва была для него недостижимымъ,
мертвымъ голосомъ. И если бы мертвецъ
заговорилъ изъ гроба, впечатлѣнiе не
было бы болѣе сильнымъ.
«Сейчасъ говоритъ Москва».
Ранцевъ напрягъ все свое вниманiе. Какъ она
говорила!…
Жидовскiй, картавый и даже въ мембранѣ
аппарата наглый голосъ самодовольно повѣствовалъ:
— Товаг’ищи, день пег’ваго мая во всей
западной Евг’опѣ явился блестящей побѣдой пг’олетаг’iата надъ
буг’жуазiей. Гг’омадныя толпы голодныхъ, затг’авленныхъ нѣмецкими
фабг’икантами г’абочихъ вышли изъ Нейкольна въ Бег’линъ и пг’одемостг’иг’овали
величiе и мощь пг’олетаг’iата. Испуганная полицiя пг’итихла, и въ
Бег’линѣ мы имѣемъ полную побѣду. Ског’о тамъ будетъ
пг’олетаг’ская г’еволюцiя. He пг’ойдетъ и мѣсяца — кг’асныя знамена
совѣтовъ взовьются надъ двог’цами упитанныхъ банкиг’овъ. Въ Паг’ижѣ
миг’ный пг’аздникъ тг’удящихся был омг’аченъ кг’овавымъ безчинствомъ Кiаппа,
этого вг’ага фг’анцузской бѣдноты… Но, товаг’ищи, не долго и там
тег’пѣть пг’итѣсненiя капиталистовъ. Кг’овавая месть наг’ода
неуклонно ведетъ къ гильотинѣ…
— Все одно и тоже, — сказалъ Немо, — какъ имъ
не надоѣстъ и слушать эту белиберду.
— Какъ видите, — сказалъ Шулькевичъ, — они давно
вывѣтрились. И ихъ никто не слушалъ бы, если бы…
Онъ сдѣлалъ знакъ, чтобы слушали.
Плавные звуки большого оркестра вдругъ
раздались въ домикѣ, точно подъ сурдинку. Несказанная Русская красота ихъ
пополнила.
Играли оперную увертюру.
— «Русланъ и Людмила», — благоговѣйно
прошепталъ Шулькевичъ.
Ранцевъ закрылъ глаза. Ему казалось, что онъ
не только слышитъ, но и видитъ то, что происходитъ въ театрѣ. Передъ нимъ
всталъ громадный зрительный залъ стараго театра, того театра, который не зналъ
никакихъ большевиковъ. Онъ вдругъ увидалъ нарядные туалеты дамъ, офицеровъ въ
ихъ красивыхъ формахъ и чинно сидящiй внизу подъ рампой оркестръ, На мгновенiе
оркестръ смолкъ и сейчасъ же заигралъ allegro.
Нѣжный теноръ, — Шулькевичъ, который все
зналъ, прошепталъ: — «Собиновъ» — вступилъ съ оркестромъ:
— Дѣла давно минувшихъ дней…
И хоръ, — какъ отчетливо въ этой усовершенствованной
Лагерхольмомъ мемранѣ былъ онъ слышенъ — принялъ отъ тенора и продолжалъ:
— Дѣла давно минувшихъ дней
Преданья старины глубокой,
Преданья старины глубокой…
Послушаемъ его рѣчей,
Завиденъ даръ пѣвца высокiй: —
Всѣ тайны неба и людей
Провидитъ взоръ его далекiй…
Четко и ясно, такъ, что каждое слово можно
было разобрать, пѣлъ Баянъ — Собиновъ:
— Про славу Русскiя земли
Бряцайте струны золотыя,
Какъ наши дѣды удалые
На Цареградъ войною шли…
— Подумать только, — тихо сказалъ Шулькевичъ, этo
слушаютъ въ совѣтской Москвѣ!
А Баянъ уже отвѣчалъ хору:
— За благомъ вслѣдъ идутъ печали,
Печаль же радости залогь.
Природу вмѣстѣ созидали
Бѣлъ богъ и мрачный Чернобогъ…
Въ комнатѣ темнѣло. Майскiй вечеръ
надвигался, Немо поднялся, чтобы ѣхать. Лагерхольмъ сказалъ ему:
— Подождите, если можете, до конца
дѣйствiя. Самое главное впереди. Мнѣ есть чѣмъ похвастать передъ
вами.
Капитанъ Немо покорно сѣлъ.
Дѣйствiе кончалось. Шелъ финалъ перваго
акта. Мощнымъ басомъ призывалъ Свѣтозаръ:
— O, витязи, во чисто поле…
Дорогъ часъ, путь далекъ,
Дорогъ часъ, путь далекъ.
Насъ Перунъ храни въ пути
И ковъ врага ты сокруши…
Еще оркестръ давалъ послѣднiе аккорды,
какъ деревянно защелкалъ аппаратъ — раздались апплодисменты. И сейчасъ же,
заглушая ихъ изъ той же мембраны, что передавала оперу, которую играли въ
Москвѣ послышался молодой, изступленный, восторженный голосъ:
— Богъ будетъ воевать съ безбожниками… Онъ
истребитъ ихъ огненнымъ дождемъ… Вся вода обернется кровью… Зачѣмъ
гноитесь въ кол-хозахъ?… Рвите жидовскiе путы. Берите свободу, станьте надъ
коммунистами. Россiя безъ Царя?… Это невозможно… Этого никогда не будетъ!…
Дальше ничего не было слышно. Пошли перебои,
трескъ и щелчки.
— Глушатъ аппаратъ, — сказалъ спокойно
Лагерхольмъ. — Они никогда не догадаются. кто и гдѣ говоритъ это.
Капитанъ Немо внимательно посмотрѣлъ въ
глаза Лагерхольму.
— Послушайте, — сказалъ онъ, — неужели то, о
чемъ вы мнѣ говорили, вамъ, наконецъ, удалось? Вѣдь ры сами тогда
считали, что это почти невозможно.
— Да, почти… Теорiя отраженныхъ волнъ была
совсѣмъ неразработана. И мнѣ пришлось много, очень много
поработать, прежде чѣмъ я достигъ тѣхъ результатовъ, что вы видите
здѣсь. Это говоритъ на верху нашъ пропащiй актеръ Ваничка Метелинъ. Его голосъ,
какъ въ зеркалѣ отражался въ Московскомъ аппаратѣ, поставленномъ въ
Большомъ театрѣ и мы заставляемъ совѣтскiй аппаратъ работать для
насъ.
— Это великолѣпно, — съ силою сказалъ
капитанъ Немо. — Это одно изъ величайшихъ вашихъ изобрѣтенiй въ области радiографiи.
Вы это давно начали здѣсь?
— Я работаю дней пять. Но я долженъ быть
крайне осторожнымъ, чтобы французская станцiя, на бѣду она такъ недалеко
отъ насъ, не уловила своими сѣтями мѣсто нашей станцiи. Конечно, въ
этомъ лѣсу насъ не сразу найдутъ, да и лѣсники насъ предупредятъ.
Мы все успѣемъ припрятать и даже уйти изъ лѣса. За все
отвѣтитъ отецъ Ѳеодосiй.
— Богъ не допуститъ, — кротко и распѣвно
проговорилъ стоявшiй въ углу монахъ. — Господь оборонитъ и не дастъ дiаволу
посмѣяться надъ нами.
Капитанъ Немо всталъ и, протягивая руку
Лагерхольму, сказалъ:
— Я не ошибся въ васъ… Вы генiальны… Я не
спрашиваю васъ, какъ вы достигли этого. Это ваша тайна. Но я понимаю, какое
страшное значенiе будетъ имѣть оно на войнѣ. Вы заставите аппараты
противника говорить все то, что скажете вы у себя. Вы собьете всѣ планы,
уничтожите всѣ распоряженiя…
— Своимъ изобрѣтенiемъ, —
нѣсколько торжественно сказалъ Лагерхольмъ, — я привелъ къ нолю значенiе
радiо телеграфа на войнѣ. Это, какъ ваши лучи, взрывающiе аэропланы… Все
это упрощаетъ войну… Богъ дастъ — сдѣлаетъ ее невозможною. Такъ же, какъ
и вы, — внушительно добавилъ финнъ, — я работаю для мира. И всѣ мои
изобрѣтенiя, какъ и изобрѣтенiя всѣхъ насъ — это война — войнѣ!
XIV.
Теплая майская ночь наступила. Капитанъ Немо и
Ранцевъ, провожаемые Лагерхольмомъ, Шулькевичемъ, Ваничкой Метелинымъ и отцомъ
Ѳеодосiемъ вышли изъ лѣсного дома и сѣли на лошадей.
Луна молодякъ торчала надъ лѣсомъ. Часто
вспархивали фазаны, пугая лошадей тревожнымъ крикомъ и шумомъ крыльевъ.
Бѣлесая пелена тумана стлалась надъ папоротниковыми полянами. Небо было
глубоко и прозрачно. Лѣсные звуки были полны неразгаданной тайны.
То, что видѣлъ эти дни Ранцевъ глубоко
его волновало. Такъ все это было необычайно и, пожалуй, страшно. Какъ устроилъ
Немо, что въ кипящую, суетящуюся жизнь Францiи вклеилъ, вклинилъ
незамѣтно свою жизнь? Вставилъ мощно работающую невидимую организацiю,
которой никто еще не доискался.
Профессоръ Вундерлихъ только что сказалъ про
него: — «генiй». Дѣйствительно было нѣчто сверхъ человѣческое
во всемъ размахѣ работы капитана Немо. Онъ собралъ свое «варьете»…
Кругомъ шла Русская эмигрантская обывательская жизнь. Благотворительные балы,
юбилеи, панихиды и похороны, свадьбы и разводы, рѣчи на банкетахъ,
взбадриванiе самихъ себя, что такъ мѣтко назвадъ Степа Дружко
«уралиномъ». Печатались листки, книги, брошюры, писались и покрывались тысячами
подписей воззванiя — «слезницы» къ Лигѣ Нацiй. Возжигали пламя на
могилѣ чужого неизвѣстнаго солдата, читали доклады, устраивали
съѣзды, шли лекцiи и рефераты; младороссы ссорились съ евразiйцами,
законопослушные предавали проклятiю «непредрѣшенцевъ», академики были
академически важны, торгово-промышленники чѣмъ то торговали и промышляли…
Шла жизнь и не было жизни. Казалась она миражемъ. Вся работа была, какъ работа
машины на холостомъ ходу. Ибо не было главнаго — Родины. Не для чего и не для
кого было работать. Всѣ для чего то собирали деньги: — «для Родины»… И,
какъ собирали многiе, то и собирали такъ немного, что ничего нельзя было на эти
деньги сдѣлать. И всѣ боялись сказать главное, что, если борьба, то
будутъ и жертвы. Этотъ человѣкъ — капитанъ Немо, кого такъ давно и хорошо
зналъ Ранцевъ и кого съ дѣтскихъ лѣтъ привыкъ уважать и
цѣнить сумѣлъ собрать людей и готовился и къ борьбѣ и къ
жертвамъ. И все это прикрылъ шутовскимъ колпакомъ: — «кинематографическое
общество «Атлантида»…
Въ аллеѣ акацiй прянъ и душенъ былъ
ночной воздухъ. Отъ полей и луговъ шелъ нѣжный и влажный духъ ростущей
травы. Нигдѣ не было жилья и только далеко, далеко, на Парижской
дорогѣ вспыхивали и мчались, обгоняя другъ друга, яркiе огни
автомобильныхъ фонарей.
Тамъ неслась страшная европейская
«культурная», торопящаяся жизнь. И такимъ противорѣчiемъ съ нею былъ
мѣрный, ровный и бодрый шагъ лошадей, тихое поскрипыванiе сѣделъ и
мирный сумракъ уснувшихъ полей. Было хорошо молчать и думать подъ ровное,
осмысленное движенiе разумныхъ животныхъ.
На фермѣ Пиксанова привѣтливо
горѣли огни. Изъ сарая, гдѣ заперты были молодыя куры, слышался
мелодичный пискъ, и на огородѣ робко, по весеннему квакали и урчали
лягушки.
Въ просторной комнатѣ съ кафельнымъ
поломъ, на кругломъ столѣ, подъ электрической грушей было накрыто на пять
приборовъ.
Любовь Димитрiевна подала дымящуюся миску
Русскихъ щей. Она причесалась и принарядилась. Она была теперь «барыней», женой
гвардейскаго офицера, хотя и подавала сама отъ плиты блюда самою изготовленнаго
ужина. Золотистые, густые, не стриженные волосы — она была Русская и твердо, съ
дѣтства, — вѣроятно, еще отъ старой няни, — усвоила, что стриженыя
косы — позоръ, — были уложены красивыми блестящими волнами. Запахъ каленыхъ
щипцовъ и жженой бумаги — свидѣтель ея парикмахерскихъ работъ —
примѣшался къ запаху щей и аромату духовъ. Она и надушиться не забыла.
Коричневый «tailleur» упруго облегалъ молодое сильное тѣло. Изъ подъ
распахнутой жакетки видна была розовая шелковая блузка въ нѣжныхъ
складкахъ. Чулки и башмаки были въ тонъ костюму. На рукѣ были
надѣты золотые часики, и на тонкой цѣпочкѣ болтался полковой
жетонъ. Она была хоть сейчасъ въ Петербургскую гостиную. На лицѣ ея было:
— «не смотрите на насъ, что мы тутъ сами стряпаемъ и курятники чистимъ, мы не
опускаемся».
Пиксановъ былъ сдержанъ и серьезенъ. Онъ
ревновалъ капитана Немо къ Ранцеву. Его, Пиксанова, Немо пикогда не бралъ съ
собою, а съ Ранцевымъ проѣздилъ до ночи. Онъ старательно говорилъ о
«постороннемъ»:
— Русскихъ сѣмянъ нигдѣ не
достану. Укропъ, положимъ, получилъ. Но огурцы?… Корнишоны, это совсѣмъ
не то, что наши Нѣжинскiе сладкiе огурчики. A ихъ длинные
змѣеобразные гиганты!… Для чего плодить ихъ?… какая логика?
— У насъ въ имѣнiи, — томно сказала
Любовь Димитрiевна, — даже ананасы разводили… Подумайте въ Рязанской губернiи —
ананасы… Натурально въ оранжереяхъ… у насъ были таки садовники… Своего цѣнить
и хранить только никакъ не умѣли…
— А помнишь, Люба, сушеный горошекъ… Какая
прелесть!… И всегда и зимою и лѣтомъ…
— Вообще сушеныя овощи… Славились… На
Казанской улицѣ былъ спецiальный магазинъ… Чего, чего тамъ не было.
Немо, казалось, не слушалъ. Онъ смотрѣлъ
въ синiе глаза хозяйки, но мысли его были далеко отъ сушеныхъ овощей.
Едва кончили лимонное желе — оно къ великому
огорченiю Любови Димитрiевны не удалось и было жидкимъ, — капитанъ Немо
поднялся.
— Простите, Любовь Димитрiевна, мы должны
ѣхать. Насъ ждутъ дѣла. Спасибо за чудный вашъ обѣдъ. Давно я
такъ не ѣлъ.
— Ахъ, помилуйте, пожалуйста.. И желе не
удалось. He надо было его и дѣлать… Тепло очень стало, а льду у насъ
нѣтъ. Вы бы хотя еще чаю напились. Чай
готовъ. Вода въ чайникѣ кипитъ. Мы бы на
вольномъ воздухѣ подъ липками… Очень бы хорошо…
Капитанъ Немо рѣшительно отказался отъ
чая.
— Ну, до свиданья, — сказала Любовь Димитрiевна
и добавила по привычкѣ: — пока!…
Вспыхнули фонари машины, уперлись яркими
лучами въ пустынную деревенскую улицу, гдѣ всѣ дома давно спали
крѣпкимъ сномъ. Машина мягко и безшумно тронулась и покатилась въ
глубокую балку, гдѣ подъ ея огнями серебряными облаками клубился туманъ.
Немо молчалъ. Ранцевъ смотрѣлъ въ окно,
на темныя поля, на мелькавшiе мимо стволы деревьевъ. Онъ вздрогнулъ, когда Немо
вдругъ коснулся его ноги.
— Ты хорошо знаешь Пиксанова?… Какъ ты
думаешь, можно ему въ наше отсутствiе поручить эту радiо станцiю?
— Я знаю, что онъ очень честный
человѣкъ.
— Ты говоришь… Мнѣ этого довольно…
Опять молчали. Каждый отдался своимъ думамъ и
соображенiямъ.
По Парижу мчались съ большою скоростью. Мокрыя
улицы были пустынны. Иногда попадались, какъ тѣни скользящiе по нимъ
парные велосипедисты полицейскiе, совершавшiе объѣзды.
Когда прiѣхали домой, хотя было уже за
полночь, Немо не отпустилъ Ранцева. Онъ усѣлся съ нимъ въ нижнемъ
кабинетѣ и диктовалъ ему:
— Отъ «Олида» — ветчины Парижской восемь тоннъ…
Солонины свѣжей… Все, Петръ Сергѣевичъ, надо предусмотрѣть…
Насъ, помнишь, учили: — «ѣдешь на день, а бери хлѣба на
недѣлю», какъ мы это все основательно позабыли… Записалъ: — ветчины…
Сухарей морскихъ сто ящиковъ. Печенья «Лю» шестьсотъ жестянокъ… Завтра, Петръ
Сергѣевичъ, съ утра поѣдемъ по этимъ дѣламъ… Надо и «мамонѣ»
послужить. Голодное то брюхо, какъ говорится, къ ученью глухо. Еще въ
аптекарскiе склады съ докторомъ Пономаревымъ надо будетъ проѣхать… Дня не
хватитъ… А чувствую: — кончать надо, ахъ какъ надо кончать!…
— Ты такъ многое довѣряешь французамъ?
— А что?
— Да уже очень они — безбожники. Знаешь…
Мнѣ кажется революцiя даромъ никогда не проходитъ… Все таки есть въ нихъ
что то… Матерiалисты они…
— Это Парижъ… Да и то не весь… Вотъ, кончимъ
здѣсь, поѣдемъ грузиться. Тамъ въ Бретани, въ Нормандiи другое
увидишь… Какая вѣра!… Дай Богъ намъ такой… Я тебя пошлю раньше… На дачу…
Самъ останусь на два, на три дня. Кстати ты и отдохнешь. Нѣтъ… Хорошiй
народъ… Твердый… вѣрующiй… А какiе патрiоты!… Такъ продолжаемъ: —
консервовъ мясныхъ… Записалъ?
XV.
Съ той самой безсонной ночи, когда на
разсвѣтѣ Нордековъ покушался на самоубiйство, онъ жилъ особенною
жизнью. Онъ точно переродился, помолодѣлъ, взбодрилъ себя и приводилъ въ
недоумѣнiе и озлобленiе женскую половину виллы «Les Coccinelles».
Bee произошло такъ странно и головокружительно
быстро. Въ этотъ день онъ, на этотъ разъ съ Ферфаксовымъ, поѣхалъ въ
транспортную контору и заявилъ о своемъ уходѣ. Потомъ Ферфаксовъ повезъ
его на rue Mouzaïa, гдѣ предложилъ росписаться въ полученiи
жалованья за май. Онъ росписался въ настоящей, по старой формѣ
составленной, требовательной вѣдомости и, мелькомъ взглянувъ въ нее, увидалъ
тамъ росписку Амарантова. Это его успокоило.
— Что же я долженъ дѣлать? — спросилъ
онъ, закуривая папиросу.
Ферфаксовъ, молча, показалъ ему на плакатъ: — «просятъ
не курить».
Нордековъ погасилъ папиросу. Ферфаксовъ
спокойно и твердо сказалъ:
— Обучать, а потомъ и комдндовать ротой.
Нордекову показалось, что онъ ослышался.
— Ротой?…
— Да… Вотъ списокъ роты. Перепишите его
себѣ. Перепишите и требовательныя вѣдомости. Теперь уже вы будете
платить имъ жалованье.
Ферфаксовъ подалъ Нордекову бумаги,
пододвинулъ перо и чернильницу, самъ же усѣлся за сосѣднимъ
столомъ, открылъ несгораемую шкатулку, вынулъ изъ нея кипу счетовъ и сталъ
щелкать на счетахъ.
Нордековъ углубился въ данный ему списокъ.
Рота полнаго состава, по штатамъ военнаго времени… Рота для съемки въ кинематографѣ?
Кое кого онъ зналъ въ этой ротѣ. Князь Ардаганскiй, напримѣръ… и
отмѣтка на поляхъ карандашемъ: — «въ распоряженiи капитана Немо для
связи».
— Это тоже переписывать?
— Да, отмѣтьте для свѣдѣнiя.
Нордековъ переписывалъ.
«Семенъ Вѣха, барабанщикъ. Архангельской
губернiи». …«Летчикъ Калиникъ Евстратовъ, онъ же горнистъ и трубачъ… Области
Войска Донского. Хорошiй агитаторъ». …«Странно», — подумалъ Нордековъ.
— И это: хорошiй агитаторъ? — спросилъ онъ.
— Да… Для свѣдѣнiя.
«Странно… Вѣдь это же фильма?…»
«Командиръ первой полуроты Евгенiй Парчевскiй, С.-Петербургской губернiи,
кавалеристъ. Отлично знаетъ городъ. На первыя роли».
— Развѣ полковникъ Парчевскiй у насъ?
Онъ мнѣ ничего не говорилъ.
— Да. У насъ не принято говорить.
— Да… Такъ…
Люди были различныхъ губернiй и областей старой
Россiи, но особенно много было уроженцевъ далекаго Сѣвера, сибирской
тундры, и это бросилось въ глаза Нордекову. Два взвода были иностранцы —
нѣмцы и французы.
— Это зачѣмъ же?…
— Такъ нужно. Фильма интернацiональная. Списки
были готовы. Ферфаксовъ объяснилъ Нордекову, гдѣ, какъ и чему онъ долженъ
обучать роту. Выправка, маршировка, ружейные прiемы, порядокъ внутренней
службы, гарнизонный уставъ, сборка, разборка и сбереженiе винтовки.
— Винтовка то къ чему?
— Таково требованiе общества.
Нѣтъ съ нимъ не разговоришься.
Ферфаксовъ годами былъ моложе Нордекова, но полковника это не смущало. За годы
пребыванiя въ Добровольческой армiи онъ привыкъ, что полковники могутъ стоять
за рядовыхъ въ строю, а прапорщики командовать ротами.
Онъ усвоилъ, что дисциплина можетъ быть и безъ
iерархiи… Притомъ же это для кинематографа.
Въ контору приходили люди за справками.
Ферфаксовъ знакомилъ ихъ съ ротнымъ командиромъ. Нордековъ молодымъ
дѣлалъ круглые глаза и, свирѣпо вращая ими, говорилъ:
— Тр-р-репещи молодежь!… Видъ веселый, но безъ
улыбки!… Полковникъ Нордековъ васъ подтянетъ!…
Время шло быстро. Послѣ завтрака они на
такси поѣхали къ портному, выбрали и пригнали для Нордекова синiй
костюмъ, такой же, какой былъ на Ферфаксовѣ. Тамъ же полковникъ получилъ
три голубовато сѣрыя рубашки и галстухъ голубой съ серебряной строчкой,
шляпу и черное пальто.
— Что же все это стоитъ? — не безъ испуга
спросилъ полковникъ.
— Ничего не стоитъ. Это казенное. Отъ
общества. Это — наша форма.
— Форма, — тупо повторилъ полковникъ. Ему
хотѣлось ущипнуть себя за руку. He спитъ ли онъ надъ Сеной съ
револьверомъ въ карманѣ и съ твердымъ намѣренiемъ
застрѣлиться въ сердцѣ?… Или это уже «на томъ свѣтѣ»?…
Но странно все таки, что на томъ свѣтѣ — Ферфаксовъ, Парижскiя
улицы и французъ портной.
Что то военное было въ немъ самомъ, когда онъ
надѣлъ на себя новое платье. Оно поднимало духъ.
— Я могу это и носить?
— Да, если хотите… На занятiяхъ обязательно.
Внѣ службы по желанiю.
«Чудеса въ рѣшетѣ», — подумалъ
полковникъ. Въ этой «формѣ» онъ чувствовалъ себя моложе и бодрѣе.
Точно со старымъ его костюмомъ отлетѣло его «бѣженское» «я»,
гдѣ были транспортная контора и вилла «Les Coccinelles».
Ho «Les Coccinelles» остались. Онъ возвращался
на нихъ, какъ всегда въ седьмомъ часу вечера, франтомъ, въ синемъ костюмѣ
и въ черной щляпѣ и съ кордонкой въ рукахъ. И, какъ всегда, Нифонтъ
Ивановичъ съ «газетиной» поджидалъ его у воротъ.
— Здравiя желаю, ваше высокоблагородiе, —
привѣтствовалъ старый казакъ полковника. — Съ обновкой, между прочимъ,
васъ. Ладный кустюмчикъ прiобрѣли… Поди франковъ поболѣ пяти сотъ
дали. Очень даже прекрасный. А «культура» голубая съ серебромъ — весьма
авантажно выглядитъ.
Агафошкинъ шелъ на полъ шага сзади Нордекова.
— Ну, какъ въ Парижѣ?… He слыхали ли чего
утѣшительнаго?… Что про Рассею говорятъ?…
И сразу точно что осѣнило Нордекова.
«Да, вотъ оно что!… Ловко, однако, придумано… Что называется: — шито-крыто»…
— Барыня не вернулись? — спросилъ онъ.
— Никакъ нѣтъ. Въ восьмомъ часу
вѣдь возвертаются теперь. Добавочная работа, на аккордъ. Бабушка
обѣдъ готовятъ. Барышня на верху читаютъ. Сыночка вашего еще нѣтъ.
— Ну, пойдемъ къ тебѣ… Есть новое… Есть
утѣшительное…
— Вотъ, порадуйте старика. Очень даже обяжете.
Полковникъ сѣлъ на стулъ, гдѣ
садились заказчики. Нифонтъ Ивановичъ сталъ у окна. Фирсъ стоялъ въ углу у
печки.
— Поздравь меня, Нифонтъ Ивановичъ, я буду
теперь ротой командовать.
— Да гдѣ же это такое?… Ужели, какая
организацiя?
— Будутъ, Нифонтъ Ивановичъ, фильму крутить,
чтобы въ синема показывать. И тамъ войска нужны. Ну такъ вотъ я тамъ и буду
ротой командовать.
— Та-акъ.. А что же тутъ утѣшительнаго?
— А, если, Нифонтъ Ивановичъ… Если рота то эта
только начало?… И синема отводъ глазъ, чтобы врагъ раньше времени не пронюхалъ?…
Ты какъ полагаешь?
Старикъ долго молчалъ.
— Роты, полагаю, ваше высокоблагородiе, очень
даже мало. Опять — агличане не стали бы препятствовать?… Гдѣ же сниматься
то полагаете?
— Далеко… На островахъ заморскихъ.
— И вы полагаете, ваше высокоблагородiе… — старикъ
замолчалъ. Фирсъ въ углу переминался съ ноги на ногу. — Вы полагаете?… Съ
острововъ этихъ?… можно?… въ Россiю ?
— Если Богъ поможетъ.
— Да, конечно, ежели Господь… Къ Нему Единому
прибѣгаемъ… Ежели только грѣхамъ нашимъ потерпитъ? Стосковались
тамъ по насъ… А, какъ вы полагаете, — не можетъ такъ быть?… Тутъ, скажемъ, въ
Парижѣ — рота. Пусть!… А тамъ, что ли — въ Марсели еще одна… Да въ
Лiонѣ, въ Монтаржахъ по одной — вотъ тебѣ будетъ баталiонъ.
Свѣтъ отъ великъ, ваше высокоблагородiе, — и страдающаго Русскаго люда въ
немъ несосвѣтимая сила… И съ разныхъ ежели концовъ?… Только флотъ нужонъ…
А гдѣ его достать?… Намъ никто не поможетъ…
Старикъ опять помолчалъ и послѣ долгаго
раздумья съ такою чрезвычайною тоскою, что вся душа перевернулась у полковника,
чуть слышно проговорилъ:
— Можетъ Брiанъ чего надумалъ?…
Просвѣтилъ бы Господь человѣка.
Полковникъ ничего не отвѣтилъ. Въ душной
мастерской, гдѣ пахло сапожнымъ варомъ и прѣлою кожею стояла
тишина. И точно большая печаль вошла въ эту комнату. Нифонтъ Ивановичъ
вытянулся передъ полковникомъ и сказалъ глубокимъ голосомъ:
— Ваше высокоблагородiе, осмѣлюсь васъ
попросить.
— Ну?…
—Какъ, значитъ, будетъ у васъ рота… Ходить она
будетъ ?
— Да.
— Значитъ подметки снашивать будетъ… To да се…
тамъ переда обновить надо… Какъ вы полагаете?
— Вѣроятно.
— Ну и, значитъ, безъ сапожника вамъ никакъ не
обойтись. Вотъ онъ — я есть сапожникъ. Фирсъ, внукъ мой, мнѣ помощникъ.
Еще кормить, поить роту надо. Я, ваше высокоблагородiе, какъ сюда пришли, два
года у Никонова казака въ ресторанѣ «Тихiй Донъ» поваромъ былъ… Когда
обѣды бывали большiе на триста персонъ готовилъ. Вотъ онъ какой я есть.
Щи Донскiя, борщъ флотскiй, все могу, все умѣю. Ротѣ какъ безъ кашевара…
Квасы варить могу. Медъ сытить… Фирсъ мнѣ помощникъ. Онъ есть внукъ
мнѣ — изъ повиновенiя не выйдетъ.
— Такъ вѣдь, Нифонтъ Ивановичъ, — это за
моря плыть придется.
— И сюда шли, ваше высокоблагородiе, тоже
скольки морей переплыли. Можетъ тѣ моря поближе къ Россiи будутъ?… А съ
вами послужить я радъ буду. Очень уже мнѣ обрыдло такъ безъ движенiя
сидѣть, а стронемся. Богъ дастъ и пойдемъ… Ну и пойдемъ… Лишь бы народъ
пошелъ — и мы за народомъ.
— Хорошо, я поговорю.
— А теперь, идите, ваше высокоблагородiе,
слышите, Топси залаяла… Барыня ваша домой возвертаются. Похвалитесь обновкой.
XVI.
«Похвалиться обновкой» — вотъ этого то никакъ
не надо было дѣлать. Но и переодѣваться въ старый костюмъ было
поздно. Полковникъ развязалъ, было, кордонку, куда сложилъ все старое, какъ въ
спальню стремительно вошла Ольга Сергѣевна. Она никогда просто не ходила,
всегда «носилась». Она и говорила о себѣ: — «Я понеслась къ Парчевскимъ…
Едва захватила поѣздъ… Въ метро ногу ушибла, чуть въ аксиданъ не попала.
Въ вуатюру не могла протолкаться. Толпа же, давка»…
Ольга Сергѣевна сразу замѣтила
новый пиджакъ мужа и разговоръ начала на «вы», что означало, что она устала и
сильно не въ духѣ.
— Что это вы такимъ павлиномъ вырядились?…
— Какимъ павлиномъ, Леля?…
— И рубашка синенькая и галстухъ голубенькiй…
Поди, со значенiемъ. Въ капитаны васъ разжаловали… Строчка одна… Этихъ
мнѣ напоминаетъ, Божiихъ ко-ровокъ, Ферфаксова, Михако и Амарантова, какъ
у насъ тогда были… Американцы какiе то.
Полковникъ смутился. Ольга Сергѣевна
продолжала. Рядомъ за жидкою картонною стѣнкою мамочка и Леночка накрывали
на столъ. Онѣ перестали гремѣть посудой. Вѣрно притаились —
подслушивали.
— Поди, опять выдумка полкового объединенiя.
Каждый мѣсяцъ обѣды — по тридцать, пятьдесятъ франковъ на нихъ
уплываетъ… Теперь вотъ еще музей задумали… За богачами тянетесь. А того не
видите, что у жены башмаковъ нѣтъ. Племянницу чему нибудь учить надо. He
совѣтской же дурой ей вѣкъ вѣковать. Сколько за костюмъ съ
васъ вычитывать будутъ?… И костюмъ то какой глупый придумали. Пиджакъ не
пиджакъ… Карманы то — автомобиль спрятать можно… Френчеватое что то… Глупо-съ, Георгiй
Димитрiевичъ… Пора перестать въ солдатики играть.
— Я, милая Лелечка, поступилъ на новое
мѣсто… Ну и…
— Что же это за мѣсто такое?… Кажется на
такое мѣсто васъ устроили… Только Бога благодарить… Патронъ доволенъ… Вамъ
довѣряютъ… Тысяча сто франковъ! По теперешнимъ тугимъ временамъ, не
всякiй таксистъ столько заработаетъ…
— Вотъ, Леля, полторы тысячи жалованья за
мѣсяцъ впередъ, — полковникъ благоразумно размѣнялъ одинъ тысячный
билетъ и припряталъ себѣ пятьсотъ франковъ на свои расходы.
Видъ денегъ смягчилъ Ольгу Сергѣевну. Съ
грубоватою ласкою она спросила:
— Куда поступилъ?…
— Поступилъ я въ кинематографическое общество
«Атлантида». Тамъ буду ротой командовать… А теперь ее обучать надо.
Ольга Сергѣевна смотрѣла на мужа
съ недовѣрiемъ.
— А не врете?…
— Сама, Леля, видишь. Тамъ и обрядили.
— Все въ одинъ день… Ничего раньше не говорили…
Да… Слушай… Постой… Если это все правда и ты на такомъ мѣстѣ,
отчего о Леночкѣ не подумалъ?…
— О Леночкѣ?… Ho причемъ тутъ Леночка?…
— Ну да, о Леночкѣ… He обо мнѣ же…
Хотя и я… Изъѣздили меня такъ, что я только и гожусь на машинкѣ
стучать… А Леночка?… А Шурикъ?… Наружность у Леночки очень того… Фотоженичная
наружность… Молода… Видала виды… Она можетъ играть. «Ведеттой» будетъ. Въ
«старъ» проберется. Это миллiонами долларовъ пахнетъ… Выбиваются же люди.
Только мы ничего не можемъ. А Шура?… Ему фатальныхъ мужчинъ играть… Волевыхъ
американцевъ, что съ аэроплана на поѣздъ скачутъ… Нѣтъ вотъ объ
этомъ у васъ ума не хватило подумать. A no нынѣшнимъ временамъ футъ-болъ
и кинематографъ это почище старой гвардiи будетъ.
— Но, Леля, сколько я сегодня могъ
ознакомиться отъ Факса.
— Отъ Факса?.. Боже!… Онъ играетъ!… Этого не доставало!…
Воображаю! Впрочемъ, можетъ какого нибудь Пата и Патафона изобразить… Съ его
собачьими глазами… Навѣрно онъ умнѣе тебя былъ и устроилъ свою
Анельку играть. Кѣмъ онъ тамъ?…
— Казначеемъ и вербовщикомъ.
— Вербуетъ артистовъ?
— Нѣтъ, солдатъ для моей роты.
— Ты что то, милый, сочиняешь. Какая рота?
Господи!… А, если это опять новая авантюра?… Куда вы ѣдете? Гдѣ
будете сниматься?…
— Сколько я слышалъ: — на островахъ
Галапагосъ.
— Это: «сколько я слышалъ» прямо безподобно!…
Божiи коровки!… Гдѣ?…
— На островахъ Галапагосъ. Это въ Тихомъ океанѣ…
Противъ республики Экуадоръ, на самомъ экваторѣ.
— Знаю, милый, гимназiю съ медалью кончила. He
учи, пожалуйста. Странный способъ снимать фильму… На экваторѣ. Какихъ же
это солдатъ вы будете изображать?
— Русскихъ.
— Русскихъ?… На экваторѣ?… Да что ваше
общество съ ума спятило что ли?… Ты смотри, милый Георгiй Димитрiевичъ, какъ бы
не того… Гдѣ деньги такъ зря даютъ — тамъ большевиками пахнетъ. Смотри не
попадись. Дурака не сваляй. Поѣдешь на острова Галапагосъ, а
прiѣдешь въ Одессу въ Чрезвычайку… Очень уже вы всѣ Акимы-простоты.
Если кинематографическое общество, то прежде всего — артистки, ведетты, какiя
нибудь этакiя красавицы, миссъ Францiи, миссъ Америки, а уже потомъ статисты,
изображающiе солдатъ, a y васъ наоборотъ.
— Я не знаю, можетъ быть, тамъ и есть какiя нибудь
артистки… Даже навѣрно есть… Тамъ Парчевскiй, Амарантовъ, Ферфаксовъ,
князь Ардаганскiй… Публика на «ять».
— И давно?…
— Да, вѣроятно.
— Однако, молчали… Лидiя Петровна мнѣ
ничего не говорила. Будь остороженъ, Георгiй Димитрiевичъ. Почему наемъ идетъ
не черезъ Обще-Воинскiй Союзъ?… Нужна организацiя — она готова. А, если это
васъ смущаютъ, чтобы лучшихъ отправить въ совдепiю и тамъ вывести въ расходъ?
Ольга Сергѣевна посмотрѣла на мужа
съ глубокимъ сожалѣнiемъ. Было и презрѣнiе въ ея взглядѣ.
«Божiи коровки, летятъ на огонь. Какiе всѣ они довѣрчивые простаки…
Вотъ поманили… Ротой командовать!… Кинематографической ротой! и полетѣлъ
на огонь, сунулся въ воду, не спросясь броду… Всему повѣрилъ»…
— Кто стоитъ во главѣ дѣла?.. -
— Этого, Леля, намъ, рядовымъ работникамъ, не
говорятъ. Мы только статисты. Ферфаксовъ называлъ его: — капитанъ Немо.
Конечно, это псевдонимъ.
— Капитанъ Немо!… Мишель Строговъ!… — Ольга
Сергѣевна истерически засмѣялась. — Все изъ Жюль Верна… Ну, Шурка —
необразованный дуракъ, что съ него спрашивать!… А ты — академикъ Генеральнаго
штаба и тоже — капитанъ Немо…
Съ недобрымъ смѣхомъ она открыла двери
въ столовую.
— Мамочка, можно обѣдать, — крикнула
она, хотя мамочка — вотъ она — стояла прямо за дверью. — Ну, посмотришь, что
тамъ… Капитанъ Немо!… Вѣдь я думаю и уйти можно, — сказала она примирительно,
точно ощущая въ своей сумочкѣ полторы тысячи, развязывавшiя много
завязавшихся и такихъ крѣпкихъ узловъ.
XVII
Слова жены смутили полковника. Какую то
искорку подозрѣнiя они въ немъ заронили.
«Брали и точно лучшихъ» — размышлялъ полковникъ,
возвращаясь въ седьмомъ часу вечера съ занятiй съ ротой домой. По
мѣрѣ того, какъ онъ знакомился съ людьми своей роты, онъ
видѣлъ, что чья то искусная рука сняла головку эмиграцiи. Въ его
ротѣ — все спецiалисты: — летчики, моряки, флотскiе офицеры, химики,
радiотехники, инженеры, тонкiе мастера. И притомъ все народъ здоровый,
крѣпкiй, молодой. Одинъ Амарантовъ чего стоилъ!… Всѣ самые ярые
антибольшевики, все бывшiе «бѣлые» офицеры, или молодежь, не
измѣнившая лозунгамъ: — «за вѣру, Царя и отечество». На словесныхъ
занятiяхъ Нордековъ разговаривалъ съ ними. Колебанiй, «непредрѣшенчества»
въ нихъ не было. Всѣ твердо исповѣдывали: — Россiя можетъ быть
только подъ царемъ — безъ Царя не будетъ и Россiи. Интеллигенту президенту
Русскiй инородецъ добровольно не покорится. Царя признаетъ и возвеличитъ.
Республика — это раздѣлъ Россiи, возвращенiе ея къ удѣльно
вѣчевому перiоду, путь назадъ.
Всѣми занятiями руководилъ Ранцевъ. Онъ
и вообще игралъ большую роль — замѣститель капитана Немо. Ранцевъ
требовалъ чистой вѣры. Онъ постоянно повторялъ Суворовскiя поученiя: —
«безвѣрное войско учить — желѣзо перегорѣлое точить»…
Нѣтъ, — большевиками отнюдь не пахло… Но
временами страхъ охватывалъ Нордекова… А что, если собрали головку эмиграцiи и
притомъ головку молодую, не ту, что сама опадетъ, и правда, отвезутъ ее
вмѣсто острововъ Галапагосъ въ Одессу, или въ Новороссiйскъ?… Вѣдь
и Ранцевъ могъ быть обманутъ, какъ былъ обманутъ Кутеповъ.
Очень подозрительно было и то, что въ
ротѣ два рзвода были иностранцы. Зачѣмъ?… А вотъ, чтобы связать и
укротить непокорныхъ… Да, поистинѣ, если такъ — какой дiавольскiй планъ!
Надо было быть на чеку, чтобы не попасть въ
Чеку.
И дома, на виллѣ «Les Coccinelles» тоже
приходилось быть постоянно на сторожѣ.
Агафошкинъ со внукомъ Фирсомъ поступили въ
кашевары роты. Ферфаксовъ ихъ охотно принялъ. Полковникъ попробовалъ уговорить
поступить въ роту и сына. Ему было прiятно, чтобы и сынъ его испыталъ военную
муштру и чувство строя, хотя бы и кинематографическаго.
Разговоръ былъ общiй, за чаемъ, послѣ
ужина. Говорить на виллѣ «Les Coccinelles» наединѣ было безполезно.
Стѣны слышали.
— Ты, Шура, сколько теперь зарабатываешь? —
спросилъ полковникъ.
— Теперь, кризисъ… Хорошо, если въ день
тридцать франковъ очистится, — хмуря брови узко поставленныхъ глазъ, сказалъ
Мишель Строговъ.
— Значитъ — всего девятьсотъ.
Мишель промолчалъ. Открывать тайну своего
заработка онъ считалъ лишнимъ, а таблицу умноженiя его отецъ вѣроятно
зналъ не хуже его.
— Поступай, братъ, ко мнѣ въ роту.
Полторы тысячи чистыхъ на всемъ готовомъ.
Мишель Строговъ уставился на отца немигающими
желтыми глазами.
— Зачѣмъ?…
— Все обломаемъ тебя. Человѣкомъ
сдѣлаемъ. Можетъ быть, когда еще и пригодится.
— Я и такъ человѣкъ. Я свою карьеру ясно
вижу. Буду боксеромъ. Миллiоны зрителей, гулъ толпы… Я видалъ это… Все равно,
что богъ… Кумиръ толпы…
— Ну… а представь себѣ.. Вотъ такъ
незамѣтно съорганизуются полки… И пойдемъ спасать Россiю.
Отвѣтъ Мишеля былъ рѣзокъ и
неожиданъ. Онъ бичомъ ударилъ по сердцу полковника.
— На что мнѣ Россiя?… Полковникъ не сразу
нашелся, что ствѣтить. Мамочка зловѣще улыбалась. Ольга
Сергѣевна сидѣла, опустивъ глаза, и такая усталость, такая скорбь и
безразличiе ко всему были на ея лицѣ, что полковникъ не могъ на нее
смотрѣть.
— Что ты говоришь, Шура?
— Я говорю то, что знаю. Повидавъ Европу,
поживъ во Францiи, я никогда и ни за что не поѣду въ Россiю, какая она
тамъ ни будь… Я французскiй подданный. И испыталъ все значенiе великой свободы,
какою я здѣсь пользуюсь. Я обожаю Парижъ… Тутъ можно всего достигнуть. А
что въ Россiи? Клоповъ кормить по уплотненнымъ квартирамъ?
— Ну, зачѣмъ же уплотненныя квартиры, —
сдерживаясь и стараясь быть спокойнымъ, говорилъ полковникъ. — He будетъ
большевиковъ, не будетъ и уплотненныхъ квартиръ. Все устроится и тамъ по
настоящему. И это нашъ долгъ все это устроить.
— Съ кинематографическою ротой, — съ иронiей
сказалъ Мишель Строговъ. — Нѣтъ… Я знаю… Это всегда такъ и будетъ. И Лена
говорила то же самое. Большевики овладѣютъ всѣмъ мiромъ. Бороться
съ ними безполезно.
— Значитъ они овладѣютъ и Францiей?
— Нѣтъ, Францiей они не овладѣютъ.
— Почему же?… Если всѣмъ мiромъ, то и Францiей?
— Францiя уже пережила большевизмъ. Она къ нему
иммунна. Это, какъ дѣтская болѣзнь. Корь, или скарлатина. Францiя
уже перенесла ее.
— Но Германiя?…
— Въ Германiи большевизмъ будетъ. Повторяю: —
бороться безполезно. Я не Донъ Кихотъ, чтобы сражаться съ вѣтряными
мельницами.
— Но, Шура, — вмѣшалась въ разговоръ
Ольга Сергѣевна. Ей жаль стало полковника. — Никто не говоритъ ни о какой
борьбѣ. Папа предлагаетъ тебѣ поступить въ его роту, чтобы
сниматься для кинематографа.
— Не желаю.
Леночка съ восхищенiемъ смотрѣла на
двоюроднаго брата. Въ эти минуты она была влюблена въ него по настоящему. «Вотъ
это герой», — думала она. —«Подлинный современный «типъ».
Эти дни она молчала. Сложная и трудная работа
шла въ ея душѣ. Живя въ Совѣтской республикѣ, Леночка съ
дѣтства усвоила, что надо доносить. Она знала, что всѣ другъ на
друга доносятъ, и въ школѣ, гдѣ она училась — это было принято.
Прiѣхавъ въ Парижъ, Леночка убѣдилась, что здѣсь доносить
какъ то не ловко, да и некуда. Въ Троцкѣ пошла въ домовый комитетъ и
сказала, что слышала, какъ такой то говорилъ то то. А здѣсь, кому что
скажешь? Домового комитета не было. На ихъ виллѣ не было даже консьержки…
Хозяинъ — Леночка это сразу, точно звѣринымъ чутьемъ учуяла — никакими
Русскими дѣлами не интересовался. Да и о чемъ доносить?… Всѣ и
событiя то были, что ощенилась Топси, и никто не могъ уничтожить ея щенятъ.
Пришлось самой Леночкѣ этимъ заняться.
Теперь было другое. Теперь была — тайна.
При одной мысли раскрыть, овладѣть этою
тайной сердце Леночки трепетало, и смуглыя щеки пробивались темнымъ румянцемъ.
Она слышала, какъ ея тетка сказала, что у нея фотоженичная наружность.
Послѣ чая, когда втроемъ: — мамочка,
Ольга Сергѣевна и она помыли посуду, и полковникъ съ женой ушли въ свою
комнату, а мамочка стала укладываться спать, Леночка усѣлась передъ
зеркаломъ, подперевъ кулаками щеки. Большiе, карiе, слегка косо поставленные
глаза — въ Олтабасовыхъ текла татарская кровь, — устремились въ ихъ отраженiе.
Они блестѣли алмазными искорками. Ротъ былъ маленькiй, пухлый — имъ можно
десятиметровый поцѣлуй изобразить, какъ Сюзи Вернонъ — долго, долго
впиваться въ губы, потомъ медленно оторваться, отодвинуть лицо и приложить
пальчики къ губамъ партнера… Очень красиво!… Очень даже красиво!… И она можетъ…
А вѣдь это миллiоны?…
И правда она не хуже Лили Дамита, а уже Ольга
Чехова, или Киса Куприна!… Нѣтъ, если ее хорошенько прiодѣть,
волосы завить не самой, а у хорошаго парикмахера, укрѣпить и удлинить
рѣсницы особыми мазями — не хуже будетъ. Но для этого надо, чтобы ее кто
нибудь представилъ туда, гдѣ берутъ артистокъ кино.
Изъ совѣтской республики Леночка вынесла
убѣжденiе, что большевики всемогущи. Заграницей это убѣжденiе въ
ней окрѣпло. Она ихъ не боялась. Если она придетъ къ нимъ съ «тайной»,
они проведутъ ее въ любое общество. Она поѣдетъ не на какiе то острова
Галапагосъ съ никому неизвѣстнымъ обществомъ «Атлантида», гдѣ
навѣрно одна Русская эмигрантская глупость и ничего путнаго не выйдетъ,
но поѣдетъ въ Холливудъ, гдѣ станетъ знаменитостью, какъ Мери
Пикфордъ, или Маргарита Морено. Она будетъ цѣловаться на цѣлые сто
метровъ съ такими красавцами, какъ Морисъ Шевалье, или Рамонъ Новарро… Она
читала бiографiи всѣхъ этихъ «старъ» — она знала, что тутъ ни
образованiя, ни знанiй, ни даже таланта не надо — нужна наружность и красивое
сложенiе, да еще глаза, которые сами бы говорили.
Леночка вздохнула, посмотрѣла на
лежавшую лицомъ къ стѣнѣ, на боку бабушку и тихонько, не скрипнувъ
дверью, вышла изъ комнаты и легкой бѣлочкой пробѣжала наверхъ въ
комнату-гробъ Мишеля Строгова.
XVIII.
Сквозь щели узкой двери Мишеля просачивался
свѣтъ. Мишель Строговъ не спалъ. Леночка заглянула ьъ щелку. Мишель
лежалъ одѣтый на постели и читалъ свою любимую «Le Sport».
Леночка прiоткрыла дверь и вошла въ комнату
Мишеля. Тотъ не пошевельнулся. Мишель Строговъ считалъ, что хорошiй тонъ — быть
самимъ собою и никѣмъ и ничѣмъ не стѣснять себя.
Вѣжливость условна. Мишель никогда не уступалъ мѣста дамѣ въ
вагонѣ и никогда не вставалъ, кто бы съ нимъ ни разговаривалъ. Тѣмъ
болѣе не стоило стѣсняться передъ Леночкой, которая предлагала ему
сдѣлать ей ребенка и бѣгала за нимъ.
— Мишель, — сказала Леночка. Она одна во всей
семьѣ такъ называла его и это подкупало Мишеля. Онъ опустилъ газету и,
положивъ ее себѣ на животъ, посмотрѣлъ на Леночку.
— Мишель, вы хотѣли бы сдѣлать
карьеру?
— Я ее и сдѣлаю, — спокойно сказалъ
Мишель и уставился узко поставленными глазами на Леночку.
— Но, пора и начинать… Время уходитъ.
— Чтобы начать — надо случай. Всѣхъ
знаменитостей бокса всегда выдвигалъ случай.
— Надо его искать.
— Случай не ищутъ. Это онъ васъ находитъ.
— Ну такъ вотъ. Случай найденъ. Если вы меня
послушаете, мы можемъ «сдѣлать» миллiоны.
Мишель приподнялся и спустилъ одну ногу съ
кровати. Штанина поднялась надъ ботинкомъ, сталъ виденъ спустившiйся носокъ и
кусокъ бѣлой голой ноги.
Мишель такъ же, какъ и Леночка считалъ только
на миллiоны. Къ этому прiучили ихъ кинематографъ и газеты. Въ газетахъ они
постоянно читали о миллiонныхъ кражахъ, о миллiонныхъ искахъ «ведеттъ» къ
парикмахерамъ, искалѣченныхъ автомобилемъ къ владѣльцу машины, оскорбленныхъ
къ оскорбителю. Миллiоны наживали биржевой игрой и спекуляцiей. Летчикъ Костъ
получилъ пять миллiоновъ за свой полетъ надъ океаномъ, миллiоны получали
боксеры, миллiоны платили за изобрѣтенiя, миллiоны получали артисты и
артистки экрана. Молодое воображенiе играло, воспринимая эти извѣстiя, и
заработокъ въ тридцать франковъ казался насмѣшкой судьбы. Всѣ мечты
были направлены на миллiоны — и не о славѣ, не о подвигахъ, совершенныхъ
для Родины думалъ Мишель, но о томъ, чтобы, просидѣвъ, скажемъ,
мѣсяцъ на шпилѣ Эйфелевой башни — получить за это миллiонъ. Или
заработать его на «Марафонѣ» танцевъ, гдѣ танцовать, не переставая
двадцатъ дней и двадцать ночей, или выиграть на шестидневныхъ велосипедныхъ
гонкахъ… И всегда въ мечтахъ были миллiоны. Не десятки и даже не сотни тысячъ,
но кругленькiе, заманчивые миллiоны!
— Ну, ужъ и миллiоны, — сказалъ Мишель, недовѣрчиво
глядя въ глаза Леночки.
— А что бы вы сдѣлали, если бы вы
имѣли миллiонъ?
— Я бы… — Мишель окончательно сѣлъ. Его
тупые глаза заблестѣли. — Прежде всего я бы купилъ гоночную машину…
Экспрессъ… Не знаю, есть ли такiя, въ тысячу силъ. И установилъ бы мiровой
рекордъ на скорость. Чтобы во всѣхъ газетахъ были мои портреты.
Мишель замолчалъ, мечтательно глядя вдаль. Онъ
точно видѣлъ изображенiе своего сухого, бритаго, узкаго лица съ копной волосъ
на темени, на первой страницѣ Парижскихъ газетъ.
— Потомъ?
— Потомъ я научился бы летать… И рекорды на скорость…
на высоту и на дальность полета безъ спуска… Я бы показалъ… Мiровая
извѣстность. Моимъ именемъ называли бы ваксу и пиво…
— Ну вы стали бы миллiардеромъ: а тогда что?
— Тогда я взялъ бы королеву всего свѣта
и поѣхалъ бы съ нею на своей машинѣ. Ночь въ Парижѣ, а завтра
въ Ниццѣ, въ Бiаррицѣ… И вездѣ насъ снимаютъ для газетъ… Я бы
сыгранулъ въ Монако… Сдѣлался бы самъ королемъ гольфа…
— Все это хорошо, — задумчиво сказала Леночка.
Ее уязвило, что онъ о ней не подумалъ. — Эти миллiоны вы сдѣлали бы, благодаря
мнѣ. Что же вы мнѣ дали бы?…
— Я уплатилъ бы вамъ условленный процентъ,
какъ это всегда дѣлается… Да что говорить пустяки. Никакихъ миллiоновъ у
васъ нѣтъ. И что, въ самомъ дѣлѣ, вы можете придумать.
— А вотъ увидите… Неужели вы не видите, что у
полковника какая то тайна.
И Леночка и Мишель Строговъ за глаза называли,
она дядю, онъ отца — полковникомъ. Въ этомъ они видѣли «стиль».
— Положимъ.
— Вы понимаете — тайна это всегда деньги.
— То есть?
— Если вы раскроете тайну и передадите ее
тѣмъ, отъ кого эта тайна, вамъ хорошо заплатятъ… Миллiоны… Поняли?
— Не совсѣмъ.
— Скажемъ… И, правда, кинематографическое общество
«Атлантида» задумало дѣлать съемки на островахъ Галапагосъ. Для чего оно
такъ уединяется?… Это — тайна.
Можетъ быть они придумали какiе то совсѣмъ необычайные трюки. Не то,
чтобы одинъ какой то отчаянный человѣкъ съ аэроплана бросался на
поѣздъ, но чтобы, скажемъ, такъ: — идетъ поѣздъ и вдругъ всѣ
крыши вагоновъ открываются, на поѣздъ налетаютъ аэропланы и всѣ
пассажиры на ходу садятся въ нихъ… А на дѣлѣ ничего подобнаго.
Просто, знаете, какъ по стѣнѣ громаднаго дома лазаютъ, а на
дѣлѣ никакой стѣны и нѣтъ, а просто на полу лежитъ
написанная декорацiя. «Атлантида» естественно бережетъ этотъ секретъ. Для этого
и ѣдетъ на какiе то острова. А мы узнаемъ этотъ секретъ и продадимъ его
«Парамунту», или «Уфѣ», или еще кому нибудь… Вы понимаете, въ нашъ
вѣкъ конкуренцiи, какiя это могутъ быть деньги. Вамъ дадутъ миллiоны, а
меня за это сдѣлаютъ «ведеттой» съ окладомъ тысяча долларовъ въ
недѣлю.
— Не глупо пущено. Только я думаю, что у
полковника это секретъ не кинематографическiй, а политическiй… Авантюра…
— Тѣмъ лучше. За раскрытiе политической
тайны платить уже будетъ не коммерческое общество, но государство, это уже
пахнетъ еще большими суммами. Если его рота, я не знаю, что это много или мало
для войны, скажемъ, направлена противъ совѣтскаго союза, — я пойду, куда
надо и я сумѣю получить хорошiя деньги.
— Надо взять только очень большiя деньги, —
серьезно и строго сказалъ Мишель.
— Если это Англiя интригуетъ противъ Францiи…
Мы скажемъ Францiи… Можетъ быть, это хотятъ
посадить Испанскаго короля на престолъ. Кто знаетъ? Но понимаете, Мишель, это
тайна, которую можно очень хорошо продать. Это начало вашей и моей карьеры.
— Хорошо… Но какъ же мы узнаемъ эту тайну?
— Очень просто. Вамъ надо исполнить желанiе
полковника и поступить въ его роту. Тайна сама станетъ вамъ извѣстна. Вы
скажете мнѣ. А тамъ посмотримъ, какого рода будетъ эта тайна.
Мишель Строговъ крѣпко задумался.
«Эта дѣвочка не дура… Она стоитъ на
прямомъ и вѣрномъ пути къ богатству… Конечно, идти даже и въ
кинематографическую роту и маршировать тамъ подъ барабанъ, куда какъ не сладко…
Но и возить клiентовъ безъ конца тоже надоѣло… Профессiя борца, когда то
она будетъ?… Тутъ подворачивается профессiя шпiона… Интересное и, кажется, если
судить по кинематографамъ,
тоже не безвыгодное занятiе».
— Хорошо. Если это тайна кинематографическая —
деньги мои, васъ устраиваемъ сниматься. Если политическая — деньги пополамъ.
Согласны?…
— Я согласна.
На другой день, къ удивленiю и радости полковника,
— онъ таки очень любилъ сына и мечталъ дать ему воинское образованiе и
воспитаиiе и обратить его на путь истинный, — Мишель Строговъ заявилъ о своемъ
желанiи поступить въ его роту и обучаться, хотя бы и для кинематографа военному
дѣлу.
XIX.
Пиксановъ сказалъ Ранцеву правду. Капитанъ
Немо держалъ свою лучшую лошадь, кобылу Артемиду, недѣлями въ заведенiи
Ленсманъ въ Парижѣ и ѣздилъ въ Булонскомъ лѣсу. Ранцевъ не
спрашивалъ Немо, зачѣмъ онъ это дѣлаетъ. За время своей работы съ
Немо онъ проникся такимъ уваженiемъ къ нему, что ему все, что ни дѣлалъ
Немо казалось нужнымъ и цѣлесообразнымъ. Немного кольнуло его, что Немо
самъ не сказалъ ему этого и не бралъ его съ собою, но сейчасъ же подумалъ, что
Немо дѣлаетъ это изъ деликатности, чтобы Ранцеву не встрѣчаться съ
дочерью.
Маленькiя слабости большихъ людей… По свойственной
ему природной скромности, капитанъ Немо не считалъ себя большимъ… Да и
слабость, — онъ это сразу почувствовалъ — не была маленькой.
Съ двухъ своихъ встрѣчъ и волнующихъ
разговоровъ съ миссъ Гербертъ, капитанъ Немо убѣдился, что онъ полюбилъ
эту дѣвочку позднею, но крѣпкою и сильною любовью. Онъ тщательно
взвѣсилъ и изучилъ свое чувство. Было оно, какъ осенняя погода устойчиво,
ярко, красиво и крѣпко. Оно выплыло изъ глубокаго далека. Изъ тѣхъ
временъ, когда Ранцевъ, Багреневъ и онъ, три лихихъ кадета, три мушкетера
королевны Захолустнаго штаба ухаживали за такой вотъ точно дѣвочкой
Алечкой Лоссовской. Капитанъ Немо — тогда кадетъ Долле, — очень скоро изъ
скромности и сознанiя, что онъ не можетъ дать того, что давали его товарищи,
заглушилъ въ себѣ сильное чувство любви, смѣнилъ его чувствомъ
непоколебимой дружбы и преданности и такъ и пронесъ это чувство черезъ всю
жизнь, никогда никому о немъ не сказавъ.
Здѣсь, заграницей, богатый,
извѣстный, носящiй въ сердцѣ своемъ великую тайну и свѣтлую
мечту освободить Россiю отъ большевиковъ, достигающiй уже исполненiя мечты, онъ
вдругъ встрѣтился съ дочерью этой самой Алечки Лоссовской и въ томъ же
возрастѣ въ какомъ была ея мать въ пору его увлеченiя. Дочь была
красивѣе, глубже, сердечнѣе и умнѣе матери. И она неотразимо
повлекла къ себѣ серьезнаго и занятого Немо.
Ему нужны были лошади для поѣздокъ въ
Bois Notre Dame. Это сорокъ верстъ отъ Парижа. И Пиксанову и лошади ничего не
стоило дѣлать эти сорокъ верстъ разъ въ недѣлю, a y капитана Немо
явилась возможность любоваться тою, къ кому его влекли воспоминанiя и поздно
пробудившееся чувство любви.
Сначала Немо пробовалъ обмануть самого себя.
Онъ говорилъ себѣ, что онъ ѣздитъ для здоровья. Онъ цѣлые дни
проводитъ, сидя за рабочимъ столомъ, или въ автомобилѣ, или въ полетахъ,
ему нуженъ иной моцiонъ и что можетъ быть лучше верховой ѣзды? Онъ въ
умѣ своемъ сослался на Муссолини и Наполеона. Но чуждый компромисса самъ себя
остановилъ. «Ну да, влюбился, какъ кадетъ, какъ гимназистъ… Влюбился, но безумствъ
не надѣлаю, а что полюбуюсь на ту, чью мать такъ сильно любилъ, что
никогда даже не посмѣлъ сказать ей о своей любви и чей отецъ не только
моимъ дру-гомъ, но сталъ и сотрудникомъ и замѣстителемъ, такъ бѣды
отъ этого никакой не будетъ!»
И онъ поѣхалъ полюбоваться этой
барышней, англичанкой по воспитанiю, Русской по крови.
Еще была тогда зима, но дни были яркiе,
солнечные, радостные. Въ Булонскомъ лѣсу, все казалось красивымъ и
принаряженнымъ. Очень много было катающихся. Немо скоро увидалъ ту, кого такъ
хотѣлъ встрѣтить. Она ѣхала на прекрасной рыжей лошади и
почти рядомъ съ нею ѣхалъ наѣздникъ, англичанинъ, на сѣрой и
такой же хорошей лошади. Капитанъ Немо снялъ котелокъ. Ана сейчасъ же узнала
его. Она перевела свою лошадь на шагъ и подъѣхала къ Немо.
— Вы ѣздите верхомъ? — спросила она,
ласково улыбаясь, — но почему я васъ раньше не встрѣчала?
— Я раньше не ѣздилъ. Только сегодня
началъ. Они говорили по-англiйски.
— Какая прекрасная у васъ лошадь. Она не изъ
манежа?
— Нѣтъ. Это моя собственная лошадь.
— Это сейчасъ и видно. Раньше я ѣздила
на манежной. Теперь мнѣ мама купила этихъ двухъ лошадей. Совсѣмъ
другое.
Она пустила свою лошадь рысью. Они
проѣхали, молча, аллею. Немо любовался ею. Какъ она напоминала ему
Валентину Петровну!… Та ѣздила тогда амазонкой, Ана сидѣла на
мужскомъ сѣдлѣ въ разрѣзной юбкѣ. Отъ этого она
казалась меньше и стройнѣе, чѣмъ была Валентина Петровна. Она,
оборачиваясь, поглядывала на Немо. Въ ея улыбкѣ было нѣчто
неотразимо прелестное. Изъ воспоминанiя прошлаго, изъ того, что было сейчасъ
передъ нимъ, въ душѣ Немо точно плелась нѣжная ткань. Она опутывала
его сердце и непривычно сладко становилось въ немъ. Его большая работа, подвигъ
и жертва, имъ задуманные, прiобрѣтали отъ этого какое то совсѣмъ
новое и чарующее значенiе, и кромѣ Россiи къ нему приближалось это живое
существо, похвалу котораго было прiятно заслужить.
Она мягко перевела на шагъ. Лицо ея
раскраснѣлось. Пухлый ротъ былъ мило полуоткрытъ. Она наслаждалась
движенiемъ лошади. Въ ея синезеленыхъ, совсѣмъ материнскихъ глазахъ
отражалось небо и они казались болѣе синими, чѣмъ зелеными.
Бриллiантовые огни восторга играли въ нихъ.
— Вы знаете, я ужасно, какъ рада, что
встрѣтилась съ вами. Вы тогда пришли, передали это ужасное извѣстiе
о томъ, что мой отецъ убитъ на войнѣ, и исчезли, не оставивъ даже своего
адреса. Я очень тогда волновалась этимъ и много плакала. Мнѣ такъ
хотѣлось все знать о своихъ родителяхъ и о первыхъ годахъ моей жизни и
кто же мнѣ могъ разсказать, какъ не вы?
— Представьте, и мнѣ было досадно, что я
такъ мало вамъ тогда разсказалъ.
— Вы мнѣ теперь разскажете все о моихъ
настоящихъ папѣ и мамѣ. Кто они были и кто были ихъ родители?
— Вашъ отецъ герой, и въ полномъ смыслѣ
этого слова джентльменъ… Болѣе чѣмъ джентльменъ.
— Что же можетъ быть болѣе этого?
— Онъ Русскiй офицеръ.
— И знаете что, будемъ говорить по Русски. Это
мнѣ будетъ практика. Я говорю по Русски съ одною барышней. Она работаетъ
въ этомъ, знаете, обществѣ христiанскихъ молодыхъ людей. Но мнѣ
этого мало. И съ нею мы ведемъ такiе простые разговоры. Говоримъ о
литературѣ. Она даетъ мнѣ читать Русскихъ книгъ, а съ вами мы
будемъ говорить о прошломъ моихъ родителей. Ахъ, какъ это интересно все знать о
себѣ. Мнѣ иногда кажется, что мы живемъ и въ прошломъ, какъ будемъ
жить и въ будущемъ потомъ, послѣ умиранiя.
Когда они прiѣхали въ заведенiе
Ленсманъ, Ана снова представила Немо своей прiемной матери. Мистриссъ Гербертъ
очень радушно привѣтствовала инженера, котораго дожидалась такая
прекрасная машина. Она ничего не имѣла противъ того, чтобы Ана
ѣздила вмѣстѣ съ нимъ. Притомъ же ихъ сопровождалъ старый
наѣздникъ мистеръ Томпсонъ.
— До завтра, мосье Долле.
— До завтра, мадемуазелль Ана.
— Только бы опять хсрошая погода.
— Богъ дастъ, мадемуазелль Ана.
Она помахала ему изъ окна кареты маленькой
ручкой, онъ снялъ котелокъ. Было хорошо и тепло на его сердцѣ.
XX.
Капитана Немо мучилъ вопросъ, сказать
Анѣ, что ея отецъ живъ, или не говорить, какъ о томъ просилъ его Ранцевъ.
Ранцевъ просилъ его тогда, когда онъ служилъ
наѣздникомъ у госпожи Ленсманъ и былъ бѣденъ. Теперь, когда Ранцевъ
становился у такого большого и благороднаго дѣла, можетъ быть, онъ и самъ
бы хотѣлъ сблизиться со своею дочерью.
«Будущее покажетъ», — рѣшилъ Немо.
Онъ ѣхалъ по парку. Десятки всадниковъ и
амазонокъ его догоняли и обгоняли. Онъ не оборачивался. Но были какiя то тайныя
силы, — токи что ли какiе? — онъ задолго узнавалъ поступь ея лошади. Онъ не
видѣлъ ее, а уже сердце его учащенно билось, и онъ зналъ, что это
ѣдетъ она. Артемида настораживала и косила назадъ ушами. И она знала
прекрасную рыжую красавицу Аны.
— Чудный день.
— Совсѣмъ весеннiй, миссъ Ана.
— Ну, говорите, пожялуйста, по Русскому.
Она говорила хорошо, почти безъ акцента, съ
легкими неправильностями и чуть картавя, что дѣлало ея рѣчь еще
болѣе милой.
Онъ разсказалъ ей про дѣтство ея матери.
— Она была тогда дочерью начальника кавалерiйской
дивизiи.
— Вотъ отчего я такъ люблю лошадей, — сказала
Ана.
— Вашъ отецъ ихъ обожалъ. Онъ былъ спортсменъ.
— Онъ много скакалъ?
— Да.
— На стипль чезахъ?
— Да. И незадолго до войны онъ взялъ въ Красномъ
Селѣ второй Императорскiй призъ.
Все это было «страшно» интересно, но все это
требовало поясненiй. Вопросы сыпались: — «что такое Красное Село?» «что такое Императорскiй
призъ?», «это больше Дерби, или это какъ Ливерпульскiя скачки»? Бѣдный
капитанъ Немо затруднялся съ отвѣтомъ. Какъ бы тутъ ему помогъ Раыцевъ!
Онъ то навѣрно зналъ всѣ эти скачки.
— А мама?… Она хорошо ѣздила?… Лучше
меня?… Какъ она вышла замужъ? Вы мнѣ все, все разскажите. Мнѣ все
это надо знать. Я же ихъ дочь!
Всего разсказать было нельзя. Каиитанъ Немо
проявилъ большую чуткость. Онъ разсказалъ о первомъ бракѣ съ профессоромъ
Тропаревымъ, но совсѣмъ умолчалъ о Портосѣ, какъ будто его и не было.
— Куда же дѣвался этотъ Тропаревъ? Мама
развелась съ нимъ?
— Нѣтъ. Онъ умеръ. Ваша мама осталась
вдовою. Къ этому времени ея родители умерли. Она была совсѣмъ одна. Тогда
ей сдѣлалъ предложенiе вашъ отецъ. Онъ командовалъ тогда эскадрономъ въ
Маньчжурiи.
И опять нужны были отступленiя. Она не знала
что такое Маньчжурiя. «Это же Китай?… Какъ же мой отецъ могъ тамъ командовать
эскадрономъ?…».
Объясненiя затягивались. Тутъ Немо чувствовалъ
себя хорошо. Онъ это все могъ объяснить. Онъ и самъ былъ шаферомъ у нихъ на
свадьбѣ, Тутъ было самое интересное. Совсѣмъ, какъ въ
кинематографѣ! У нея была няня китаянка: «Чао-Ли». Ана нѣсколько
разъ повторила это слово.
— Чао-Ли… Чао-Ли, — да я помню… Я слышала.
Мнѣ говорили. Ужасно, какъ интересно. Вы
знаете, напрягаю память и ничего не могу вспоминать… А вотъ иногда во снѣ…
Да нѣтъ, вовсе не во снѣ, а такъ въ какой то полудремѣ,
мнѣ слышится, что кто то шипитъ надо мною… И запахъ табаку… Не нашего… И
потомъ запахъ духовъ и вотъ тутъ замретъ сердце… И я пойму, что все это
мнѣ снится или кажется. Ну, продолжайте… Папа командовалъ эскадрономъ. Я
родилась на постовой казармѣ… И кругомъ солдаты… И никого, никого… А
потомъ?
Капитанъ Немо разсказалъ, какъ Ану украли
китайцы и какъ мистеръ Гербертъ, случайно бывшiй на охо-тѣ освободилъ ее.
— Дальше я знаю. Дальше я вамъ когда нибудь
буду разсказать. А что же мои родители?
И опять шелъ длинный разсказъ о войнѣ и
объ атакѣ Заамурцевъ.
— Конная атака… Какъ это прекрасно!
— Вашъ отецъ поскакалъ, чтобы взять пулеметъ.
Онъ былъ сраженъ восемью пулями.
— Онъ былъ убитъ?
— Ночью его младшiй офицеръ Ферфаксовъ,
помните, я вамъ разсказывалъ, какъ онъ охотился, какъ онъ ходилъ отыскивать
васъ, пошелъ съ солдатами взять вашего отца, чтобы похоронить его, Онъ нашелъ
его лежащимъ подлѣ лошади. Лошадь его…
— Я помню, вы говорили… Ее звали Одалиска…
— Да, Одалиска положила ему голову на грудь.
Она была мертва. Вашъ отецъ былъ живъ…
— Ну что же дальше? — ея голосъ дрожалъ.
Капитанъ Немо не могъ лгать.
Онъ разсказалъ какъ принесли раненаго Ранцева
на перевязочный пунктъ, какъ перевезли совершенно безнадежнаго въ госпиталь и
какъ, благодаря Великой Княгинѣ Анастасiи Николаевнѣ, матери Аны
удалось выходить раненаго.
Они ѣздили каждый день. Онъ «для
моцiона», она по чистому влеченiю къ ѣздѣ. Онъ привезъ маленькiй, но
прекрасный фотографическiй аппаратъ и снялъ ее на лошади. Снимокъ вышелъ
превосходно. Онъ далъ его увеличить и вставилъ въ дорогую кожаную рамку. Тоже
«маленькiя слабости великихъ людей». Но отчего не позволить ихъ себѣ?
Онъ подошелъ въ своемъ разсказѣ къ тому
мѣсту, гдѣ надо было, или сказать всю правду, или сочинять про
смерть Ранцева.
Капитанъ Немо отослалъ лошадь на ферму къ
Пиксанову и больше не ѣздилъ въ Булонскомъ лѣсу.
Настало время отъѣзда изъ Парижа.
Подготовительныя работы были закончены. Все, что было нужно, спѣшно
грузилось въ порту Сенъ Назаръ на пароходъ «Немезиду». Завтра долженъ былъ туда
же ѣхать и Немо. Ранцевъ и вся Нордековская рота были на погрузкѣ.
«Варьете» капитана Немо тоже находилось тамъ.
Капитанъ Немо рѣшилъ все сказать Анѣ.
Онъ въ ней былъ увѣренъ. Ни выдать, ни проболтать она не могла. Просто ей
некому было проболтать. Немо казалось, что все его дѣло прiобрѣтетъ
еще большую цѣнность, когда эта дѣвочка будетъ все знать. Ему
казалось жестокимъ и несправедливымъ рѣшенiе Ранцева отречься отъ дочери.
Если тогда съ этимъ рѣшенiемъ
можно было какъ то согласиться, теперь
это было напрасно. Чуждая фантазiи голова Немо рисовала, какъ будетъ хорошо,
когда дѣло ихъ станетъ развиваться. Ана одна во всемъ мiрѣ будетъ
знать, кто это дѣлаетъ. Кто тотъ смѣлый, кто объявилъ войну
коммунизму. Анѣ будетъ радостно сознавать, что это ея отецъ и тотъ
инженеръ Долле, съ кѣмъ она такъ недавно ѣздила вмѣстѣ
въ Булонскомъ лѣсу.
И капитанъ Немо въ это послѣднее свое
Парижское утро поѣхалъ въ Булонскiй лѣсъ на Артемидѣ. Онъ
волновался, какъ гимназистъ, какъ нѣкогда кадетомъ волновался онъ,
ѣздя съ ея матерью. Молодо и потому прекрасно и прiятно было это чувство.
XXI.
Была весна и совсѣмъ по иному
выглядѣлъ Булонскiй лѣсъ въ нѣжной, пушистой прозрачности.
Дали были зелены, голубѣли пруды и озера. Капитанъ Немо выѣхалъ
нарочно позже и справился ѣздитъ ли миссъ Гербертъ. Она только что
выѣхала.
Онъ встрѣтилъ ее на большой
дорогѣ. Она ѣхала навстрѣчу и уже издали узнала его и,
улыбаясь, привѣтливо замахала рукой. Она ѣхала не съ
наѣздникомъ,
мистеромъ Томпсономъ. Ее сопровождалъ на ея
сѣрой лошади молодой, очень красивый и очень стильно, по военному строго,
одѣтый англичанинъ. Они ѣхали рядомъ и разговаривали.
— О, мосье Долле, какъ давно мы съ вами не видались!
Я такъ безпокоилась о васъ. Думала, не больны ли вы, а вы все такой же
нехорошiй, не сказали ни своего адреса, ни номера телефона. Право, я
справляться о васъ хотѣла.
Она сильно, съ чувствомъ пожала его руку.
— Позвольте васъ познакомить: — мой кузенъ капитанъ
Джемсъ Холливель.
Молодой человѣкъ приподнялъ котелокъ
надъ головой. Они подали другъ другу руки.
— И, милый Джемсъ, вы не сердитесь на насъ, мы
будемъ съ инженеромъ говорить по Русски. Онъ мнѣ не досказалъ самаго
интереснаго про моего отца.
Холливель еще любезнѣе съ чуть
замѣтной улыбкой приподнялъ котелокъ.
Капитанъ Немо и Ана ѣхали рядсмъ.
Мистеръ Холливель немного позади.
— О, какой вы жестокiй!… Развѣ можно
такъ! На самомъ интересномъ мѣстѣ все прервать. Вы точно не вѣрите,
что все, что касается моихъ Русскихъ родителей, такъ меня интересовываетъ. Мой
отецъ живъ и сейчасъ?
— Да.
— Гдѣ же онъ теперь? Какъ бы я
хотѣла его видѣть.
— Онъ во Францiи.
Она сдѣлала порывистое движеиiе. Ея
лошадь забезпокоилась.
— Гдѣ?
И тогда капитанъ Немо, отдаваясь тому чувству,
которое онъ такъ тщательно сохранялъ въ себѣ всѣ эти мѣсяцы,
подробно разсказалъ Анѣ про кинематографическое общество «Атлантида»,
гдѣ распорядителемъ былъ онъ, а его помощникомъ ея отецъ.
Она прослушала это холодно. Казалось, она была
разочарована. Капитанъ Немо это сейчасъ же почувствовалъ. И его это обрадовало.
«А вѣдь душа то въ тебѣ Петрика»,
— подумалъ онъ.
— Но, это, миссъ Ана, не вѣрно. Это
общество только отводъ глазъ.
Она не поняла его.
— Что такое «отводъ глазъ»?
Онъ объяснилъ ей по-англiйски и продолжалъ по Русски:
— Мы поведемъ страшную, непримиримую войну съ
коммунистами всего свѣта. На аэропланахъ мы прилетимъ въ Россiю…
— И мой отецъ?
— И вашъ отецъ, конечно. Вы понимаете: — ваша
мать тамъ! Онъ можетъ ее еще и отыскать.
— Боже мой!
— Но вы понимаете, что намъ никто не позволитъ
этого дѣлать и намъ нужно было найти такое мѣсто, гдѣ бы мы
могли быть, какъ у себя дома.
— И вы нашли такое мѣсто?
— Да.
— Не говорите мнѣ, гдѣ оно? Я
понимаю, какая это тайна! Они такъ сильны. Но я буду знать, когда и какъ вы
кончите?
— Конечно… Въ концѣ концовъ и газеты про
это узнаютъ и будутъ писать. Но, кромѣ того…
Она перебила его.
— Я узнаю все про моего отца. Я увижу его?
По ея теперешнему оживленiю Немо понялъ, что
въ ней было чувство пренебреженiя къ кинематографу и радость, что это не
кинематографъ, а большое военное предпрiятiе. Значитъ, она не современная, но
такая, какъ Ранцевъ… Тоже… Донъ Кихотъ… И это укрѣпило его въ возможности
сказать все.
— Мы широко используемъ и газы и пропаганду…
Мы спасемъ Россiю. И тогда…
— И тогда вы приведете ко мнѣ моего
отца. Но раньше вы пришлете ко мнѣ кого нибудь… предупредить меня… чтобы
я могла его достойно принимать… Какъ героя!…
— Хорошо. Я пришлю къ вамъ одного стараго и
очень почтеннаго человѣка. Онъ васъ зналъ еще тамъ, въ Маньчжурiи.
— Когда я была совсѣмъ малютка. Онъ,
значитъ, зналъ моихъ родителей?
— Онъ былъ начальникомъ вашего отца.
— Кто же это?
— Генералъ Заборовъ.
Они возвращались домой. Ихъ разговоръ былъ долгiй
и оживленный. Они очень много ѣхали шагомъ. Это было неудобно при
мистерѣ Холливелѣ. Ана поняла это первая. Она обернулась къ своему
кузену и сказала ему по-англiйски:
— He правда ли, Джемсъ, какая прекрасная
лошадь
у господина инженера?
— О yes, — флегматично протянулъ Холливель и
подъѣхалъ къ нимъ.
У заведенiя госпожи Ленсманъ двѣ мощныя
машины ожидали всадниковъ. Ана сердечно простилась съ капитаномъ Немо.
— Когда же вы ѣдете? — по Русски сказала
она.
— Сегодня.
— Уже?… Какъ жаль, что я теперь,
вѣроятно, не скоро васъ увижу.
Она крѣпко, можетъ быть, болѣе
сильно, чѣмъ это позволяли приличiя, пожала руку Немо. Тотъ понялъ: это
пожатiе относилось не къ нему, а къ ея отцу, и болѣе всего къ тому
великому дѣлу, о которомъ онъ только что ей разсказалъ.
У машины Ана еще разъ кивнула головой капитану
Немо. Холливель, согнувшись, влѣзъ въ карету и усѣлся на переднее
выдвижное мѣсто. Громадный «Пакхардтъ» мягко тронулся и покатился по
каменнымъ плитамъ мостовой.
Капитанъ Немо стоялъ подлѣ своего
«Рольсъ-Ройса». Шофферъ держалъ открытой дверцу. Машина Гербертъ скрылась за
поворотомъ.
«Сказать шофферу: — «за ними»!… На улицу Henri
Martin. Прiѣхать и выяснить все… Просить руки и сердца… Просить права
надѣяться на будущее… Кажется, маленькiя слабости великихъ людей заходятъ
слишкомъ далеко»…
Капитанъ Немо медленно, точно нехотя,
залѣзъ въ свою карету. Машина не двигалась. Шофферъ, обернувшись къ Немо,
смотрѣлъ вопросительно на него черезъ переднее опущенное стекло. Прошло
нѣсколько мгновенiй, короткихъ, совсѣмъ незамѣтныхъ для
шоффера, очень длинныхъ и мучительныхъ для капитана Немо. Его судьба
рѣшилась. Счастье показало ему свое лицо. Что то личное появилось передъ нимъ первый разъ бъ его жизни.
«А какъ милый Петрикъ былъ бы удивленъ…
Обрадованъ?… Кто знаетъ»?
Капитанъ Немо посмотрѣлъ на шоффера. Твердо,
спокойно, какъ всегда, быть можетъ, чуть строже чѣмъ всегда, онъ сказалъ:
— Въ городъ Сенъ Назэръ… По Орлеанской
дорогѣ.
XXII.
Ранцевъ проснулся отъ мѣрнаго, глухого
шума. Сквозь щели ставень мягкiй, бѣлый свѣтъ проникалъ въ
маленькую, какъ каюта, комнату приморскаго пансiона. Ее вотъ уже недѣлю
занимали Ранцевъ и Ферфаксовъ. Сильный, вдругъ поднявшiйся вѣтеръ
порывами ударялъ въ ставню. Сосны и кедры глухо шумѣли въ саду. Было
пасмурно. Ферфаксовъ, давно не спавшiй, сказалъ:
— Ты слышишь?… Какая буря!…
— Да… Кажется и дождь.
— Имъ не везетъ. Ранцевъ сталъ
одѣваться.
— Бурдели, наши хозяева, вчера весь день плели
гирлянды изъ зелени и цвѣтовъ. По всему городку шли приготовленiя къ
сегодняшнему дню. Имъ нужны — солнце, хорошая погода… Подумай — праздникъ
дѣтей. Бурдель вчера за стаканомъ рома разсказывалъ: — каждая мать, самая
бѣдная, обшила, принарядила къ сегодняшнему дню свое дитя, чтобы
полюбоваться имъ, чтобы гордиться имъ въ процессiи. А какая процессiя при гакой
погодѣ! Съ ногъ валитъ.
— Пойдемъ, — сказалъ быстро одѣвшiйся
Ранцевъ, — посмотримъ.
На улицѣ, идущей къ морю, они должны были
схватиться за шляпы. Мелкiй песокъ морскихъ дюнъ и не то дождь, не то брызги
океанской волны, сорванныя ураганомъ, били въ лицо и слѣпили глаза.
Сѣрое небо валилось въ море.
Желто-зеленые валы непрерывной чередой, опушаясь бѣлой пѣной, съ
ропотомъ и ревомъ шли на берегъ. Купальныя палатки ярко желтой парусины были
сняты. Деревянныя будки прижались къ набережной. Къ нимъ, шипя, подкатывалась
пѣна волнъ.
У океана вѣтеръ казался тише. Мелкiй
дождь холодилъ лицо. Надъ моремъ клубился туманъ. Мысы по сторонамъ залива стояли
въ сизой дымкѣ. Песчаные острова у входа въ океанъ обозначались
рѣзкими, бѣлыми полосами прибоя. Море было пустынно.
Вышка, откуда любители бросались въ воду, была
сломана. Ея бревна носились по волнамъ. Какой то молодецъ въ черномъ купальномъ
костюмѣ входилъ въ воду, доходилъ до первыхъ большихъ волнъ, но не
рѣшался идти дальше и отпрыгивалъ, фыркая и захлебываясь. Двѣ
англичанки стояли на пескѣ пляжа. Вѣтеръ окрутилъ ихъ юбки около
ногъ и точно хотѣлъ copвать съ нихъ платья. На набережной не было
обычныхъ гуляющихъ.
— Невеселая картина, — сказалъ Ранцевъ, — море
показываетъ намъ свой нравъ.
— А знаешь, — вглядываясь вдаль охотничьими
зоркими глазами, сказалъ Ферфаксовъ, — погода еще исправится. Ты видишь, какъ
блѣднѣетъ на небосклонѣ небо. Тамъ какъ бы
просвѣчиваетъ синева.
— Пойдемъ, порадуемъ старика Бурделя. Хозяинъ
виллы «Les Rossignoles» большими садовыми ножницами рѣзалъ цвѣты,
опустошая клумбьь
— Вы были на морѣ, — спросилъ онъ. — Ну
какъ?
— Мнѣ кажется прояснитъ, — на ужасномъ
Русско-шофферскомъ французскомъ языкѣ сказалъ Ферфаксовъ.
— Вы думаете?… Да, конечно… Иначе и быть не
можетъ… Должно, обязательно должно прояснить.
— Вы все таки вѣшаете гирлянды, —
сказалъ Ранцевъ.
— А какъ же… Моя жена съ мадамъ Манганъ уже
начали работать. Какъ же иначе, — съ печалью въ голосѣ и со слезами на
глазахъ сказалъ Бурдель, — праздникъ Fete Dieu. Богъ придетъ къ намъ. Онъ
пройдетъ мимо нашей виллы. Все Ему… Все, что имѣемъ.
Бурдель съ какою то яростью отхватилъ
ножницами громадную, прекрасную, только что распустившуюся розу.
— Богъ и Родина — все прекрасное на
свѣтѣ. И Богъ придетъ къ намъ. А вдругъ… Нѣтъ этого не можетъ
быть… Ну, какъ преосвященный отмѣнитъ процессiю?… Изъ за дождя…
— Какого тамъ чорта дождя, — воскликнулъ
Ферфаксовъ, — вы только посмотрите!
Онъ вывелъ старика изъ садика, гдѣ туйи
и сирени, росшiя у калитки заслоняли небосклонъ и показалъ вдаль. Вѣтеръ
гналъ тучи, снимая сѣрую пелену съ волнъ. Надъ островами голубое сверкало
море.
— Буря гонитъ тучи на Парижъ. Скоро будетъ совсѣмъ
ясно. Солнце будетъ… Да и вѣтеръ сталъ замѣтно тише.
— Ахъ, далъ бы Богъ… Далъ бы Богъ… Вы
подумайте, мосье Ранцевъ, наши школьники будутъ всѣ въ одинаковыхъ синихъ
костюмахъ съ бѣлыми лентами… Они будутъ первый разъ играть на фанфарахъ…
И дѣвочки всѣ въ бѣломъ съ кисейными вуалями, въ
цвѣтахъ. Какъ же можно — дождь?… Сегодня Богъ придетъ къ намъ!…
XXIII.
Въ три часа дня жидкiй благовѣстъ въ
одинъ колоколъ затрезвонилъ на городской площади. Ранцевъ и Ферфаксовъ пошли на
его призывъ.
Небольшая новая каменная церковь стояла на
песчаномъ холмѣ дюны. Два марша лѣстницы изъ дикаго камня сходились
на площадкѣ на серединѣ дюны и опять расходились, направляясь къ
церковнымъ дверямъ. Темная, блестящая зелень лавровъ и миртъ, нѣжные
листики стриженыхъ буксовъ яркими пятнами ложились на камни… Вдоль
лѣстницы, отъ низа и до верха, полуприкрытыя каменными перилами, точно
пчелки въ ульѣ, работали молоденькiя дѣвушки въ бѣлыхъ
платьяхъ. Онѣ торопились украшать цвѣтами церковь. Однѣ
растягивали длинное бѣлое полотнище надъ площадкой, другiя проворно и
ловко нашивали на него розовыя розы к красные пiоны, образуя большой и широкiй
крестъ изъ живыхъ цвѣтовъ. Третьи раскладывали вдоль перилъ миртовыя
вѣтки, украшенныя маленькими розочками…
Прояснивало. Солнце нѣтъ, нѣтъ, да
и пробьется сквозь тучи и осiяетъ своими лучами церковь, цвѣты и
трудящихся дѣвушекъ. Точно съ неба пошлетъ имъ благословенiе.
По лѣстницѣ почти непрерывной
вереницей шли старыя женщины въ черныхъ высокихъ Бретонскихъ наколкахъ и
мужчины въ длинныхъ старомодныхъ потертыхъ сюртукахъ. Они, молча, входили въ
узкiя дубовыя двери и исчезали за ними. Когда открывались двери, изъ церкви
доносилось гудѣнiе органа и пѣнiе женскаго хора. Пѣли что то
нѣжное и трогательное, что такъ подходило такъ отвѣчало, составляя
полную гармонiю съ цвѣтами, бѣлымъ пчелкамъ-дѣвушкамъ,
трудившимся у храма.
Въ церкви было свѣтло, торжественно и
нарядно.
Она была каменная, длинная, «кораблемъ», съ
тонкими бѣлыми колоннами, съ двумя рядами высокихъ узкихъ,
стрѣльчатыхъ оконъ. Между колоннъ, подъ потолкомъ, свисали бѣлыя
гирлянды бумажныхъ цвѣтовъ. У одного изъ оконъ стояла модель паруснаго,
трехмачтоваго брига. У колоннъ всѣ статуи святыхъ были обвиты цвѣтами.
Скамьи были заняты. Впереди сидѣли
дѣти. По одну сторону мальчики въ синихъ курточкахъ матросскаго образца,
съ большими бѣлыми, шелковыми бантами на лѣвомъ плечѣ, по
другую все было бѣло отъ кисейныхъ наколокъ и бѣлыхъ
цвѣточныхъ вѣнковъ. Сзади сидѣли старые мужчины и женщины,
всѣ въ черномъ. Ранцевъ не замѣтилъ среди мужчинъ — людей средняго,
его, возраста. Они молчаливо и незримо присутствовали на Богослуженiи, глядясь
съ мраморныхъ досокъ длинными колоннами золотомъ начертанныхъ именъ съ надписью
наверху: — «Morts pour la
Patrie».
Отъ бѣлыхъ гирляндъ, отъ бѣлаго
свѣта, идущаго съ двухъ сторонъ черезъ окна — въ церкви была несказанная
свѣтлая красота. Но особенно глубокимъ, небесно чистымъ и прозрачнымъ
казался свѣтъ въ нишѣ алтаря, окруженнаго невидимыми изъ церкви
окнами. Тамъ въ глубокомъ свѣтѣ цвѣтныхъ стеколъ, точно съ
неба спускались на землю, тая въ сiяющемъ эфирѣ, прекрасная статуя Божiей
Матери изъ Лурда. Раскрашенный камень голубыхъ ея ризъ, бѣлыя лилiи въ ея
розовыхъ рукахъ, свѣтлый Ликъ Божественной красоты въ этомъ
свѣтѣ казались по неземному прекрасными.
Жиденькiй органъ игралъ псалмы. И все шли въ
церковь люди, опускали руку въ чашу съ водой, быстро преклоняли колѣно,
присѣдая, и проходили вглубь къ алтарю. Тамъ шла суета приготовленiй къ процессiи.
Французское, трехцвѣтное знамя, обшитое
золотою бахромою стояло, не колышась. Взметнулись вверхъ вынимаемыя изъ
гнѣздъ почетными стариками пестрыя хо-ругви. Старухи потянулись изъ
церкви. На площади была толпа. У булочной, гдѣ на верандѣ англичане
пили чай, стояли автомобили.
Кое гдѣ вдоль улицъ садовыя ограды виллъ
были украшены бѣлыми съ красными полосами полотнищами. По нимъ узоромъ
были нашиты зеленые листики и цвѣта. Розовыя, мелкiя, вьющiяся розы и
зелень туiй были насыпаны по черному гудрону шоссе.
Мѣдный колоколъ билъ назойливо и
мѣрно. Изъ дверей храма ему отвѣчали органъ и пѣнiе хора. Эти
звуки отрывали отъ земли и уносили къ чему то прекрасному, далекому, свѣтлому,
радостному, гдѣ не было земныхъ заботъ и печалей. Это настроенiе передавалось
Ранцеву и радовало его. Божiя Матерь изъ Лурда, покровительница этого храма,
точно явилась благословить его передъ отъѣздомъ.
Старикъ съ сѣдыми густыми волосами —
вѣтеръ трепалъ ихъ и игралъ съ ними — въ черномъ пиджакѣ вынесъ изъ
церкви длинную малиноваго бархата тяжелую хоругвь, расшитую золотомъ. На
хоругви масляными красками была написана Лурдовская Божiя Матерь. Хоругвеносецъ
прошелъ мимо пестрыхъ выставокъ товаровъ въ окнѣ большого
«универсальнаго» магазина и сталъ посерединѣ улицы, обозначивъ голову
процессiи.
Изъ двора церкви къ нему выбѣжали и
пристроились человѣкъ двадцать мальчиковъ въ синихъ курточкахъ. Ихъ лица
подъ круглыми бѣлыми шапочками были серьезны. Изъ церкви потянулись
сопровождаемыя матерями маленькiя дѣти, всѣ въ бѣломъ, съ букетами
цвѣтовъ въ рукахъ. Четыре парадно одѣтыхъ мальчика съ большими
шелковыми бѣлыми бантами на плечахъ вынесли на носилкахъ статую Христа.
За нею слѣдовали дѣти съ маленькими бумажными хоругвями.
Дѣвушки въ бѣломъ, за ними юноши въ синемъ, а дальше подъ тяжелымъ
балдахиномъ малиноваго бархата медленно шествовалъ, точно изнемогая подъ
тяжестью золотомъ шитыхъ ризъ, священникъ.
За нимъ развязно, пряча папиросы въ рукава
помятыхъ синихъ пиджаковъ, вышли городскiе музыканты. Дальше шла толпа. Мужчины
отдѣльно впереди, за ними женщины.
Мосье Бурдель подошелъ къ Ранцеву. Красное лицо
его сiяло. На сѣрыхъ, старыхъ, выцвѣтшихъ глазахъ играла слеза.
— Г-ммъ, — сказалъ онъ, хватая Ранцева за
рукавъ.
— Вы думаете, бошей побѣдили тамъ?… въ
Парижѣ?… Ecole laïque?… Идiоты!… Если бы не мы?… He наше
духовенство?.. ну и, конечно, ваша Русская благородная помощь — боши были бы въ
Парижѣ!.. Это мы, вѣрующiе католики… Мы такiе вотъ, какъ Кастельно
и Фошъ, — это наши вѣрующiе, не смотря ни на что офицеры и солдаты
отстояли Францiю. Вы посмотрите — все ленточки почетнаго легiона и военной
медали на молящихся… А тѣ думаютъ… Безъ вѣры?… Безъ Бога?… Когда не
будетъ вѣры, не будетъ Бога — не станетъ и Францiи… Et voila tous…
XXIV
Размѣренно и негромко впереди ударилъ
барабанъ. Процессiя тронулась вверхъ по улицѣ.
«Тамъ… тамъ… тамъ»… — раздавалось впереди.
Нѣжные дѣвичьи голоса запѣли въ головѣ колонны.
— Nous t'adorons,
ô radieuse Hoslie
Du Dieu
d'amour voile mysterieux,
Sois notre
force aux combats de la vie,
Soutiens
nos pas sur le chemin des cieux…
Вѣтеръ рвалъ голоса. Въ глубинѣ
колонны дѣвушкамъ вторили мужчины. Они шли по три въ черномъ, кто въ
сюртукѣ, кто въ блузѣ, кто въ пиджакѣ. Ихъ лица были
серьезны. Они несли въ рукахъ маленькiя тетрадки и, слѣдя по нимъ,
подхватывали слова плавно колы-хавшагося въ воздухѣ гимиа.
— Triomphe,
ô roi,
Dieu de
TEucharistie,
Autour de toi
se pressent tes enfants,
Pour réparer
Toutrage de l'impie
A Toi nos
ceeurs et nos veux et nos chants…
Мотивъ гимна принялъ джазъ-бандный городской
оркестръ. Корнетистъ надулъ щеки и заигралъ. Трубы подхватили. Грустно
запѣлъ саксофонъ. Голоса неслись къ небу и точно раздвигали на немъ тучи.
Клочокъ синяго неба сталъ величиною съ простыню. Свѣтъ золотыми лучами
брызнулъ и заигралъ блестками на ризахъ, на вышивкахъ балдахина, на
звѣздѣ съ причастiемъ, на трубахъ и барабанахъ. Вѣтеръ
колыхалъ хоругвь. Лурдская Божiя Матерь плыла надъ толпой. Бумажные флажки
трепетали въ дѣтскихъ рукахъ. Матери врывались въ ряды дѣтей и
поправляли потревоженное вѣтромъ платье.
Enfants de choeur въ длинныхъ красныхъ и
голубыхъ юбкахъ съ глубокими складками, въ пелеринахъ, накрытыхъ кружевами, шли
впереди балдахина. Подъ балдахиномъ кюре съ французскимъ длиннымъ и прямымъ
носомъ и съ узкой сѣдѣющей бородой, свѣтски воспитанный, по
духовному благостный, шелъ чинно и важно съ сознанiемъ святости совершаемаго
имъ. За нимъ подъ пестрымъ расшитымъ золотомъ зонтикомъ, медленно шаркая по
цвѣтамъ, устилавшимъ шоссе, больными ногами, шелъ старикъ священникъ въ
круглой шапочкѣ. У него было рѣзкое лицо и острые сѣрые
глаза. Онъ несъ въ рукѣ звѣзду съ вложенной въ нее облаткой
причастiя.
Народъ выходилъ изъ домовъ и лавокъ. Онъ становился
вдоль дороги, и, когда приближалось къ нему причастiе, преклонялъ колѣни.
И только сзади равнодушные, нетерпѣливые,
безвѣрные, холодные автомобили дерзко крякали рожками, пытаясь обогнать
процессiю. Навстрѣчу имъ вѣтеръ несъ обрывки священнаго гимна,
голоса вѣрующихъ дѣтей, женщинъ и стариковъ и звуки мѣднаго
хора.
— Lorsque
Jésus, prѐs de quitter la terre
Prit en
pitié ses enfants malheureux,
L'Eucharistie
est le divin mistѐre
Qu'il inventa
pour rester avec eux…
Вѣтеръ плескалъ хоругвями. Длинныя вуали дѣвочекъ развѣвались надъ толпою узкими бѣлыми дымами.
Процессiя обогнула кварталъ и направилась къ
морю. Она не пошла къ Казино и большимъ отелямъ. Тамъ было холодно и точно
враждебно къ этой тонкой и чистой вѣрѣ. Она не пошла и къ Мэрiи,
гдѣ не были повѣшены праздничные флаги, гдѣ все показывало
равнодушiе государства къ церкви. Она обошла кварталы маленькихъ виллъ, домики
рыбаковъ и мелкихъ торговцевъ. Она точно боялась стѣснить и
помѣшать автомобилямъ и жалась въ сторону отъ служителей Золотого Тельца.
Ранцевъ и Ферфаксовъ въ православной Россiи видали
крестные ходы. Они видали ихъ и въ столицахъ и въ маленькихъ селахъ.
Вездѣ въ старой Россiи, какъ бы ни былъ бѣденъ приходъ, крестный
ходъ шелъ, торжествуя. Властно развѣвались хоругви и было сильно и полно
вѣры пѣнiе грубаго иногда, но всегда смѣлаго хора: — «Богъ
Господь и явися намъ»!…
Здѣсь гимнъ звучалъ робкою, смиренною,
неувѣренною мольбою. И звуки оркестра не могли укрѣпить его. Шло
очень много дѣтей. Правъ былъ Бурдель. Матери не пожалѣли ни
денегъ, ни труда — онѣ принарядили ихъ. И думалъ Ранцевъ: — «какая
вырастетъ новая Францiя?… Оставятъ ли на всю жизнь въ этихъ маленькихъ душахъ
волнующее воспоминанiе развѣвающiяся хоругви, золотое сiянiе
звѣзды, мѣрное пѣнiе, преклоненiе колѣнъ, сладкая
вѣра, что Богъ сошелъ на землю и шествуетъ среди людей — или ихъ покоритъ
и оторветъ отъ вѣры зычный голосъ автомобильнаго клаксона?… Останется у
нихъ воспоминанiе о медленномъ шествiи по городку съ самимъ Богомъ — какъ тихая
пристань, куда можно будетъ уходить усталой душѣ отъ свѣтскихъ бурь
— или безвѣрная школа навсегда сотретъ тихую радость испытаннаго когда то
сладкаго волненiя»?…
За каменной оградой набережной, по песчаному
пляжу ходили зеленые бѣлопѣнные валы. Надъ безкокечными просторами
моря сiяло блѣдно голубое небо. Бѣлыми дымками развѣвались
кисейныя вуали дѣвушекъ, и трепетали безчисленные флажки въ рукахъ
дѣтей. Надъ пестрою толпою медленно плылъ лиловый въ золотѣ
балдахинъ. Богъ шествовалъ вдоль моря. И обрывками — то дѣвичьими
голосами, то звуками оркестра, то несмѣлымъ хоромъ мужчинъ, поющихъ въ
унисонъ, подъ мѣрный грохотъ барабана: — «тамъ.. тамъ… тамъ…» доносилось:
— Reste
avec nous et bénis nous, Seigneur!
XXV.
Ранцевъ и Ферфаксовъ вернулись съ крестнаго хода
умиленные и растроганные. Все перечувствованное ими казалось имъ хорошимъ
предзнаменованiемъ для завтрашняго дня.
— Вотъ,
какъ никакъ мы и помолились передъ путешествiемъ, — сказалъ Ферфаксовъ. — И
стало какъ то спокойнѣе и увѣреннѣе на душѣ.
Госпожа Бурдель встрѣтила ихъ
встревоженная, какъ бываютъ всегда встревожены тихiе, простые люди, живущiе
покойною, безмятежною, размѣренною жизнью, когда приходятъ телеграммы.
— Господинъ Ранцевъ, вамъ телеграмма.
Ранцевъ взялъ маленькiй голубой, плотно
заклеенный листочекъ, торопливо распечаталъ его и взглянулъ.
— «Прiѣзжайте немедленно. Ваше
присутствiе необходимо. Нордековъ».
Ранцевъ сейчасъ же разсчитался съ хозяевами,
поблагодарилъ ихъ за гостепрiимство, нанялъ автомобиль и помчался съ
Ферфаксовымъ въ Сенъ Назэръ, гдѣ на пароходѣ «Немезида» собрались
статисты кинематографическаго общества «Атлантида».
Пароходъ стоялъ на рѣкѣ
Луарѣ« На немъ вчера были закончены ремонтныя работы и погрузка имущества
и пассажировъ. Все было готово къ отплытiю. Ждали прiѣзда капитана Немо.
Ранцевъ долженъ былъ на скромной и непримѣтной виллѣ дождаться его
и съ нимъ прiѣхать на «Немезиду».
Едва Ранцевъ прошелъ въ свою каюту, къ нему постучали.
Генералъ Чекомасовъ и Нордековъ желали
видѣть его по весьма важному дѣлу. Они прошли въ каюту съ
серьезными, замкнутыми лицами и плотно притворили за собою двери.
— Петръ Сергѣевичъ, — торжественно
началъ Нордековъ, — мы къ вамъ по весьма и весьма тревожному вопросу.
Онъ посмотрѣлъ на Чекомасова. Тотъ
молчалъ.
— Садитесь… Я васъ слушаю, — сказалъ Ранцевъ и
указалъ гостямъ на койку, а самъ сѣлъ на стулъ у иллюминатора каюты.
— Дѣло вотъ въ чемъ, — началъ, волнуясь,
Нордековъ. — Пока мы занимались въ Парижѣ… Ну тамъ… Кинематографическое
общество «Атлантида» что ли… и прочее… все шло хорошо… Здѣсь моимъ людямъ
впервые пришлось встрѣтиться, столкнуться, такъ сказать, познакомиться со
всѣмъ составомъ труппы. Мы приняли участiе и въ погрузкѣ, по вашему
приказу… Тяжелые ящики… Очень ихъ много… Масса консервовъ… И понимаете, ни
одного фотографическаго аппарата… Прибавьте къ этому: — вездѣ тайна… Тутъ
интернацiоналъ какой то… Обезьяно подобный профессоръ нѣмецъ, не
подпускающiй къ своимъ ящикамъ. Капитанъ — финляндецъ… Тоже въ решпектѣ
всѣхъ насъ держитъ… Туда не ходи, этого не тронь… Команда — Бретонцы…
Хмурый народъ… Вездѣ рогатки… Часовые… И часовые — нѣмцы… Всѣ
какъ бы въ формѣ… Ну съ этого и пошло…
Онъ замолчалъ, тяжело дыша. Ему видимо трудно было
все это сказать.
— Что же пошло? — строго спресилъ Ранцевъ.
— Правду то сказать, — вмѣшался въ
разговоръ генералъ Чекомасовъ, — это началось еще въ Парижѣ. Вы
понимаете, какъ ни велика была тайна… но близкимъ, роднымъ сказали… Пошла
сплетня… А вы знаете Парижъ эмигрантскiй съ его ревностью, завистью и злобою.
— Кинематографическое общество « Атлантида »…
Чего же еще надо?
— Такъ, видите ли, Петръ Сергѣевичъ,
одинъ изъ нашихъ союзовъ…
— Очень мощный союзъ, имѣющiй
представителей по всему свѣту, — вставилъ Чекомассвъ, — союзъ
профессiональный…
— Имѣющiй почти такое же влiянiе, какъ
Обще-Воинскiй Союзъ, произвелъ черезъ своихъ членовъ по всѣмъ странамъ
анкету и опросилъ всѣхъ работниковъ кинематографическаго дѣла.
— И что же?..
— Ну и знаете, что выяснилось?… Ни Морисъ Шевалье,
ни Рамонъ Новарро, ни Харри Куперъ, Дугласъ Фербанксъ, Бастеръ Кингтонъ, Шарло
Чаплинъ, Иванъ Петровичъ, я не говорю уже про Русскихъ фильмовиковъ —
Мозжухина, такъ же никто изъ «старъ», — ни Мери Пикфордъ, ни Глорiа Свансонъ,
ни Сюзи Вернонъ, Лили Дамита, наши Ольга Чехова, Киса Куприна, ни нѣмка
Хенни Портенъ, словомъ никто изъ людей, близкихъ къ кинематографическому мiру
ничего никогда не слыхалъ объ «Атлантидѣ» и не велъ съ нею никакихъ
переговоровъ. И это привело всѣхъ насъ въ большое смущенiе.
— Какое вамъ-то дѣло, какихъ артистовъ
беретъ наше общество? Развѣ мало такихъ фильмъ, гдѣ совсѣмъ и
не требуется первыхъ артистовъ?…
— Да, конечно, — вѣско сказалъ
Чекомасовъ. — Но я не знаю фильмы, гдѣ бы были нужны хорошо поддѣланные
совѣтскiе паспорта, или цѣлыя библiотеки совѣтскихъ книгъ и
изданiй? Экранъ такой ужъ точности не требуетъ. Это каждому изъ насъ понятно.
— Значитъ и вы болтали? Чекомасовъ смутился.
— Я не болталъ, — густо краснѣя, сказалъ
онъ, — но я не могъ про это промолчать, когда этотъ вопросъ серьезно
обсуждался.
— У васъ было собранiе?… митингъ? — не скрывая
своего отвращенiя сказалъ Ранцевъ.
— Митингъ, не митингъ… Нѣтъ…
Зачѣмъ же такъ говорить!… Но согласитесь?… Насъ нанимали на одно, а
везутъ совсѣмъ на другое…
— Но, позвольте, Георгiй Димитрiевичъ, вы же
сами знаете, у насъ уже была съемка.
— Какая же это съемка?… Курамъ на смѣхъ,
Петръ Сергѣевичъ… Отъ меня, изъ цѣлой моей роты статистовъ взяли
одного… И кого же!? Фирса Агафошкина!…
Возили его въ Лондонъ, таскали по Парижу,
возили еще, кажется, въ Италiю… Этотъ болванъ ничего толкомъ и разсказать не
могъ. Общество держитъ массу статистовъ, а снимаеть какiя то точно видовыя
фильмы и монтажъ ихъ поручаетъ чужому французскому обществу… Это только
усугубило подозрѣнiя, что дѣло то
совсѣмъ не въ съемкахъ…
— Хорошо… Допустимъ, что и точно дѣло не
въ съемкахъ. Васъ нанимали въ кинематографическое общество «Атлантида» для
съемки опасной фильмы. И вамъ это объявляли… Въ вашихъ контрактахъ даже оговорена
пенсiя вашимъ семьямъ, если бы съ вами что либо случилось. Вы шли на это…
Добровольно… Васъ кикто не понуждалъ…
— Да шли… На съемки… Можетъ быть, съ хищными
звѣрями, какъ въ Trader Horne’ѣ… Но на авантюру?…
— Авантюру?… Какая тамъ авантюра!.. Вы
видѣли, взяты сами крѣпкiе… Самые вѣрные члены Обще-Воинскаго
Союза… Лучшiе офицеры, казаки и солдаты… Военные изъ военныхъ… Бѣлые изъ
бѣлыхъ…
— Вѣрно… вѣрно-съ все это… Но вотъ
мнѣ, Петръ Сергѣевичъ, задаютъ вопросы… Ну и я слышалъ тоже про это…
А если все это ловушка? Новая работа пресловутаго чекистскаго треста?… А вотъ
выйдемъ мы, знаете, въ море, а тамъ насъ нѣмцы и французы — Богъ ихъ
знаетъ, что они за люди, моя вторая то полурота, окружатъ насъ, свяжутъ,
посадятъ въ трюмъ и отвезутъ куда угодно… Хотя въ Бѣлое море, на Соловки?…
Почему команда не Русская?… А сколько, между прочимъ, у насъ набрано моряковъ!
Если капитанъ Немо не довѣряетъ намъ, почему мы должны ему такъ
слѣпо вѣрить?…
— Вы мнѣ вѣрите?… Вы же меня не
первый день знаете…
— Вамъ, Петръ Сергѣевичъ, да… Вы,
офицеръ… Но, развѣ вы не можете быть сами обмануты?… Какъ мы вѣрили
Кутепову, а Кутепова увезли же большевики, сумѣли заманить въ ловушку…
Кто такое Капитанъ Немо?… Псевдонимъ?… Мы его не знаемъ… Онъ никогда и ни въ
какомъ бѣломъ движенiи не участвовалъ. Его никто изъ, нашихъ признанныхъ
вождей не знаетъ. Мы его даже никогда не видали… По крайней мѣрѣ
люди моей полуроты, — съ большимъ волненiемъ сказалъ Нордековъ.
— На дѣло ухлопана уйма денегъ, —
спокойно и разсудительно сказалъ Чекомасовъ, — откуда же эти деньги?… Кто
поручилъ капитану Немо его работу? Кто ее оплачиваетъ? Изъ какихъ источниковъ
питается вся эта громадная организацiя?.. Вотъ вопросы, которыми насъ,
старшихъ, здѣсь засыпали. Мы отлично знаемъ, что на бѣлое
дѣло денегъ никогда никто не давалъ, и, значитъ, если есть деньги, и
большiя притомъ, — то эти деньги даны на красное дѣло. Это большевицкiя
деньги, Ранцевъ. Вы не волнуйтесь. Обсудимъ все хладнокровно. Вы отлично
знаете, что каждый изъ насъ готовъ отдать свою жизнь за Родину. И я, между
прочимъ, занимаясь изготовленiемъ фальшивыхъ паспортовъ и документовъ, считалъ,
что это для Родины и объ одномъ только и думалъ, какъ ей послужить.
— Ну, такъ еще разъ, — въ чемъ дѣло?…
— Отъ насъ требуютъ полнаго довѣрiя и
подчиненiя, что говорится безъ отговорочнаго, а какъ мы можемъ его дать, когда
самимъ то намъ ничего не довѣряютъ. Фильмовое общество!… Прекрасно!… Ho по
всему Парижу болтаютъ, что фильмовое общество «Атлантида» — новая
продѣлка большевиковъ. Они сильны, Петръ Сергѣевичъ, охъ какъ
сильны.
— Знаю это, — съ досадою сказалъ Ранцевъ. —
Сильнѣе кошки звѣря нѣтъ… Кому же вы бы повѣрили, если
вы и мнѣ не вѣрите?…
Чекомасовъ и Нордековъ не отвѣтили на
вопросъ Ранцева. Въ каютѣ наступило долгое молчанiе. Было слышно, какъ
растревоженныя дневною бурею волны Луары били и плескали о борта «Немезиды».
Чуть скрипѣли канаты въ якорныхъ клюзахъ. Солнце, отражаясь о волны,
играло зайчиками по бѣлому свѣже покрашенному потолку каюты.
Глубокимъ и тихимъ, безконечно печальнымъ голосомъ
Ранцевъ сталъ говорить, медленно цѣдя слово за словомъ.
— У насъ былъ Великiй Князь Николай Николаевичъ…
Рыцарь безъ страха и упрека… Враги признавали чистоту его побужденiй. Офицеры
его обожали, какъ великаго полководца и. настоящаго патрiота. Когда на
Зарубежномъ Съѣздѣ былъ поднятъ вопросъ о безъотговорочномъ ему подчиненiи
— шестью голосами воздержавшихся — это предложенiе было отклонено. Ему… — не
повѣрили… Что же, господа, тогда и думать нечего о какой бы то ни было
работѣ для спасенiя Россiи?…
Ранцевъ замолчалъ. Никто ничего ему не
возразилъ. Всѣ трое сидѣли подавленные и грустные.
— Вотъ и выходитъ, — все въ томъ же раздумьи,
еще тише продолжалъ Ранцевъ, — безъ Государя мы ничего не можемъ. Безъ Государя
мы просто бѣженская пыль… А и тому мы измѣнили.
Въ его голосѣ послышалось рыданiе, но
онъ сейчасъ же справился съ собою.
— Слушайте, господа, — твердо и громко сказалъ
онъ. — Я приму къ свѣдѣнiю все, что вы мнѣ говорили.
Призовите вашихъ людей къ спокойствiю. Я дамъ имъ возможность завтра же
убѣдиться въ ошибочности ихъ подозрѣнiй.
— Вся бѣда то въ томъ, — сказалъ
Нордековъ, — что мы все это время, долгiе годы нашей эмигрантской жизни жили
мечтами о прошломъ… Поминками стараго быта.. Или думали о будущемъ, рисуя его
совсѣмъ другими чертами. А вотъ прикоснулись къ настоящему, первый разъ
стали что то дѣлать похожее на дѣло… оглянулись… и испугались.
— О прошломъ думаютъ — дураки, о будущемъ
гадаютъ сумасшедшiе. Храбрые идутъ, не оглядываясь, — твердо сказалъ Ранцевъ. —
Ступайте съ Богомъ.
Какъ только Чекомасовъ и Нордековъ вышли изъ
каюты, Ранцевъ вызвалъ къ себѣ Ферфаксова. Онъ приказалъ ему вернуться на
виллу «Les Rossignoles», дождаться тамъ капитана Немо, разсказать ему, что было
и доложить ему, что при такихъ обстоятельствахъ, онъ, Ранцевъ, не считаетъ
возможнымъ оставить пароходъ безъ себя.
XXVI.
Капитанъ Немо съ Ферфаксовымъ на своей машинѣ
прiѣхалъ въ два часа ночи. Онъ проѣхалъ прежде всего въ лоцiю, переговорилъ
съ дежурнымъ чиновникомъ, показалъ готовые, выправленные на таможнѣ выпускные
документы, вызвалъ лоцмана, и въ четвертомъ часу утра, когда все громадное
устье Луары было затянуто густымъ туманомъ, на шлюпкѣ подошелъ къ
«Немезидѣ».
Дежурный офицеръ шведъ его встрѣтилъ.
— Попросите ко мнѣ капитана Ольсоне, —
быстро на ходу сказалъ ему Немо. — Ферфаксовъ, пройдите къ Петру
Сергѣевичу, скажите, что я ожидаю его.
Немо спустился въ батарейную палубу, прошелъ
къ своей просторной каютѣ, своимъ ключомъ открылъ ее и пустилъ
свѣтъ. У двери каюты стоялъ часовой, рослый нѣмецъ, Нордековской
второй полуроты.
— Капитана Ольсоне и господина Ранцева сейчасъ
же пропустить ко мнѣ. Больше никого не пускать, — по-нѣмецки
сказалъ Немо часовому.
— Zu Befehl, Herr Kapitan, — послѣдовалъ
быстрый отвѣтъ.
Въ каютѣ пахло масляной краской,
машиннымъ масломъ и моремъ. Иллюминаторъ былъ открытъ. Легкiй предъутреннiй вѣтерокъ
трепалъ голубую занавѣску.
При яркомъ свѣтѣ электрическаго
фонаря, вдѣланнаго въ потолокъ, стѣны, покрашенныя въ бѣлую
краску и ярко начищенныя мѣдныя части блистали свѣжестью и новизной.
Въ двери каюты постучали.
— Кто тамъ?…
— Ранцевъ.
— Войди, Петръ Сергѣевичъ, я жду.
Ранцевъ не ложился. Въ сильномъ волненiи онъ
дожидался Немо. Онъ зналъ, что въ каютъ компанiи да полуночи шло собранiе. И
было много нездоровой критики и праздныхъ вопросовъ. «Почему нѣтъ вина?…
Почему запрещено курить?… Куда и зачѣмъ насъ везутъ»? Настроенiе было
приподнятое и безпокойное. Но, какъ Ранцевъ ни допытывалъ Нордекова, онъ ни на
кого не могъ указать, чтобы кто мутилъ.
— Такъ, Петръ Сергѣевичъ, само собою
выходило. Естественное безпокойство овладѣло людьми. Жребiй брошенъ… Ну и
стало страшно, подъ влiянiемъ слуховъ и Парижской болтовни, такъ естественной
при прощанiи. Какъ никакъ слишкомъ рѣзкая перемѣна жизни.
Теперь всѣ спали крѣпкимъ сномъ.
Ранцевъ только что обошелъ пароходъ. Всюду была настороженная тишина.
Поставленные по его указанiю часовые нѣмцы и французы были на мѣстахъ.
Внизу глухо и мѣрно стучалъ Дизель, подавая электричество. Ранцевъ
слышалъ, какъ причалила шлюпка и ожидалъ приглашенiя.
Ранцевъ хотѣлъ начать свой докладъ. Немо
остановилъ его.
— Подождемъ Ольсоне.
Лицо Немо было задумчиво и скорбно. Онъ точно
постарѣлъ за эту недѣлю на много лѣтъ.
Ольсоне не замедлилъ появиться. По морской привычкѣ
онъ спалъ и на якорѣ однимъ глазомъ.
— Капитанъ, у васъ все готово къ отплытiю по
указанному мною курсу?
— Есть. Все готово.
— Дизеля можете пустить немедленно?
— Есть. Дизеля можно пустить сейчасъ. Машина
прогрѣта.
— Выбирайте якоря… Съ Богомъ… Туманъ не помѣшаетъ
выйти изъ рѣки?
— Лоцманъ сказалъ: — видимость достаточная.
Пойдемъ по теченiю самымъ малымъ ходомъ, только чтобы руля слушалась.
— Съ Богомъ, — повторилъ Немо, наклоненiемъ
головы отпуская отъ себя капитана.
Онъ вышелъ въ корридоръ за капитаномъ и
нѣсколько мгновенiй прислушивался къ тому, что дѣлается на
пароходѣ.
Босыя ноги пробѣжали надъ головой. Будя
ночную тишину застучала лебедка, выбирая якорный канатъ. Плеснула волна. Потомъ
звонко и чеканно чисто сталъ отзванивать машинный телеграфъ на командномъ мостикѣ.
«Динь… динь»… Мягко заработалъ винтъ. У Ранцева чуть закружилась голова.
Пароходъ поворачивалъ по теченiю.
Въ распахнувшуюся отъ вѣтра
занавѣску иллюминатора стало видно, какъ медленно поплыли мимо огни
фонарей Сенъ Назэрскихъ улицъ и большое, высокое зданiе морской казармы.
Ровно и мѣрно, не нарушая тишины ночи,
но сливаясь съ нею, стучала машина, и шелестѣла подъ килемъ разбуженная
рѣчная волна.
— Ну, разсказывай мнѣ все безъ утайки, —
сказалъ, входя въ каюту, Немо. Онъ погасилъ электричество и сѣлъ въ
глубокое кожаное кресло, жестомъ приглашая Ранцева занять другое, противъ него.
Блѣдный, утреннiй свѣтъ
освѣтилъ его усталое, измученное лицо. Зубы были стиснуты, и какая то
новая, незнакомая Ранцеву, жестокая складка легла въ углахъ его рта.
XXVII.
— Хорошо, — сказалъ Немо, когда Ранцевъ кончилъ
свой докладъ. — Что же ты мнѣ прикажешь дѣлать?… Арестовать
всѣхъ тѣхъ, кто своею болтовнею смущалъ другихъ?… То есть прежде
всего начальниковъ… Силы для этого у меня найдутся. Связать ихъ и бросить въ
трюмъ?… Сгноить ихъ голодомъ?… Повѣсить ихъ на нокахъ рей?… Привязать къ
ихъ ногамъ ядра и въ саванахъ спустить на дно морское?… Что же все это можно…
Въ моей власти… Мы скоро выйдемъ изъ территорiальныхъ водъ Францiи. На
кормѣ виситъ флагъ такого крошечнаго государства, которое протестовать не
станетъ. Да и никто ничего не узнаетъ. Ты, Петръ Сергѣевичъ, лучше меня
знаешь офицерскую душу. Ты жилъ съ людьми, я жилъ съ наукой… Научи меня…
Присовѣтуй мнѣ.
— Ихъ надо понять, — такъ тихо, что Немо едва
разслышалъ, сказалъ Ранцевъ.
— И… простить, конечно, — съ ѣдкой
иронiей кинулъ Иемо. — Да, это просто… По христiански… Все понимать и все
прощать… и большевиковъ понять и простить…
— Прежде всего, Ричардъ Васильевичъ, тутъ кинематографическое
общество «Атлантида».. И ничего другого они не знаютъ…
— Ну что же… Если это коммерческое
предпрiятiе, съ которымъ они связали себя контрактами, значитъ можно и
бунтовать?
— Они еще не бунтовали, — твердо сказалъ Ранцевъ.
— Это «еще» великолѣпно, — съ горечью
воскликнулъ Немо. — Надо, значитъ, чтобы они меня, тебя убили и только тогда
признать наличiе бунта. Я предпочитаю нападать, а не обороняться… Надо гасить
волненiя и грядущiя революцiи и бунты въ самомъ ихъ зародышѣ.
— Имъ столько разъ измѣняли… Ихъ столько
разъ обманывали…
— Оставь, — съ брезгливой гримасой махнулъ
рукой Немо. — He отъ тебя мнѣ это слышать. Кто имъ измѣнялъ?… Это
они измѣняли… Это они слушали профессорскую клевету съ думской трибуны, и
считали себя въ правѣ измѣнить присягѣ… Что, — повысилъ голосъ
Немо, замѣтивъ, что Ранцевъ хочетъ возразить ему. — Государь имъ
измѣнилъ?… Государь обманулъ ихъ?… Государь былъ вѣренъ до самой
смерти и Россiи и своему долгу и даже покинувшимъ его и предоставившимъ его
своей судьбѣ союзникамъ.
— Государь отрекся отъ Престола и приказалъ всѣмъ
намъ служить Временному Правительству. Въ этомъ ихъ оправданiе.
— Однако, слышалъ я, ты этому правительству отказался
присягать.
— Я что же?… Я не въ счетъ… Я — Донъ Кихотъ.
— Ну, ладно… А Деникинъ, Колчакъ
измѣнили?… Какъ стало тяжело — ихъ покинули…
— He офицеры.
— Нѣтъ… И офицеры… Вся исторiя этого
нашего сверхъ подлаго времени такъ напоминаетъ мнѣ Смутное Время
1605-1613 годовъ. Такое же шатанiе отъ королевича Владислава къ Лжедимитрiю,
отъ Лжедимитрiя къ Тушинскому вору, отъ него къ Пожарскому, Ляпунову… Такъ и
тутъ отъ гетмана Скоропадскаго къ Махно, отъ Махно къ большевикамъ, отъ
Деникина къ кубанской радѣ… И сами не знаютъ, чего хотятъ.
— Не офицеры, — еще разъ строго повторилъ Ранцевъ.
— А тутъ не офицеры, — жестко съ упрекомъ сказалъ
Немо. — Вотъ, думалъ я, прошло столько лѣтъ нашего несчастья и, кажется,
такъ ясно стало видно, что нельзя же ничего такъ таки и не дѣлать и,
сложа руки, смотрѣть, какъ гибнетъ Россiя… Вотъ, придумалъ я, всѣмъ
пожертвовалъ, набралъ лучшихъ людей… Мы еще ничего не сдѣлали, ничего не
начали, а уже броженiе и эти такъ знакомые «разговорчики»… Что же мы за люди?
Куда мы годимся? Какъ осудить насъ исторiя!
— Это потому, — твердо, прямо въ глаза глядя
Немо, сказалъ Ранцевъ, — что они совсѣмъ не знаютъ, куда и зачѣмъ
ихъ везутъ? Они вѣдь даже и тебя не знаютъ, что ты за человѣкъ?
— Они знаютъ тебя.
— Ну… Кто я!..
— Ты — Ранцевъ… Ты Русскiй офицеръ и твоего
слова имъ должно быть вполнѣ достаточно… Что же они?… Ужели — трусы?…
— Нѣтъ, они не трусы, — съ силою сказалъ
Ранцевъ. — Идти и умирать въ бою — это храбрость, и она у нихъ, у всѣхъ,
есть. Но быть, какъ думаютъ они, обманомъ отвезенными въ чрезвычайку и тамъ
перебитыми, какъ скотина — это не храбрость, а глупость. Это безславная и
гадкая смерть. Вся обстановка нашего похода такова, что похоже на то, что ихъ
куда то нарочно везутъ не на войну, а для того, чтобы предать. И я ихъ
психологiю понимаю.
— И прощаешь.
— Нѣтъ. Не прощаю. Но считаю нужнымъ
теперь же открыть имъ глаза, посвятить ихъ во всю ту работу, которая ихъ
ожидаетъ, и тогда судить ихъ. Теперь, когда мы на пароходѣ и въ
морѣ, предателей бояться не приходится. А если бы таковые и явились, — мы
и сами съ ними справимся. Да ты увидишь, какъ и сами они тогда отнесутся къ
предательству. Я повторяю тебѣ: и я и Ферфаксовъ набрали тебѣ
такихъ людей, въ храбрости которыхъ сомнѣваться не приходится… Честные,
доблестные Русскiе офицеры…
— И… съ мѣста… «разговорчики»…
— He забудь, что они пережили… Они пережили
революцiю. Это не забывается… Если бы это было при Государѣ?
— Однако, почему нибудь у насъ не стало Государя…
Онъ не даромъ отрекся… И никто не помѣшалъ его отреченiю.
Что могъ на это возразить Ранцевъ? Онъ замолчалъ.
Немо низко опустилъ голову. Вся его фигура, согнувшаяся,
точно сложившаяся въ креслѣ, показывала глубокое удрученiе. Онъ тяжело
вздохнулъ, провелъ рукою по густымъ, бѣлымъ волосамъ, по лицу,
крѣпко зажмурился, точно прогоняя какую то тяжелую, назойливую мысль,
поднялъ голову, и, вставъ съ кресла, подошелъ къ письменному столу, устроенному
у лѣвой переборки каюты. Онъ взялъ большой блокъ нотъ и сталъ писать на
немъ короткiя записки, отрывая листокъ за листкомъ.
Всходившее солнце бросило золотой лучъ въ иллюминаторъ
и освѣтило его сильную, крѣпкую спину. Ранцевъ сидѣлъ не двигаясь.
Въ окна иллюминатора видны были далекiе, низкiе, зеленые берега Луары. Они
проносились съ большою быстротою. Сильнѣе стучала машина, и корпусъ
парохода мѣрно вздрагивалъ. Вода шипѣла подъ килемъ и пѣнными
полосами, блистая на солнцѣ, бѣжала къ берегу.
Чуткое ухо Ранцева улавливало пробужденiе
пассажировъ парохода «Немезида».
Немо тяжело поднялся со стула. Въ рукѣ у
него были написанныя имъ записки.
— Прикажи, — сказалъ онъ, — разнести по адресамъ…
Я хотѣлъ… Я считалъ нужнымъ… не разсуждая… По военному… Ну что же…
Разговорчики — такъ разговорчики — видно безъ нихъ не обойдешься.. Ступай. Тутъ
есть и касающееся до тебя.
XXVIII.
Весь день на пароходѣ шла дѣловая
суета. Нордековъ съ ротнымъ каптенармусомъ, взводными командирами,
унтеръ-офицерами и вызванными изъ взводовъ прiемщиками получалъ въ трюмѣ
отъ Дрiянскаго винтовки, пулеметы, патроны, аммуницiю, бѣлыя, тропическiя
куртки, соломенныя легкiя широкополыя шляпы, сабли и револьверы для офицеровъ.
При видѣ настоящаго прекраснаго оружiя
«разговорчики» смолкли. Всѣ стали серьезны. Если даже и правда, что везли
ихъ къ большевикамъ, то везли не безоружными.
Получили приказы и Вундерлихъ и Лагерхольмъ и
засуетились по своимъ просторнымъ каютамъ, гдѣ у нихъ были лабораторiи и
мастерскiя.
Ранцевъ, прочитавъ длинную и подробную инструкцiю,
набросанную ему нервнымъ почеркомъ капитана Немо, собралъ у себя всѣхъ
начальниковъ и капитана 1-го ранга Волошина, завѣдывавшаго морской частью
и въ продолженiе четырехъ часовъ подробно обсуждалъ съ ними программу
дѣйствiй.
Съ закатомъ солнца спустили кормовой флагъ того
экзотическаго государства, за которымъ числилась «Немезида». На носу, кормѣ
и по бортамъ ставили пушки Гочкиса и митральезы. Пароходъ приводился въ боевое
положенiе.
Когда стемнѣло, за кормою спустили
деревянную стремянку для рабочихъ, провели провода къ электрическимъ
переноснымъ фонарямъ, и Дружко, онъ былъ взятъ Ранцевымъ, какъ вѣрный
человѣкъ и по художественной части, спустился съ рабочими на стремянку.
Они отвинтили названiе парохода «Nemeside» и наименованiе порта, закрасили
мѣста буквъ и привинтили заранѣе заготовленныя буквы: «Мститель» и
«С.-Петербургъ»…
Работа на пароходѣ шла почти всю ночь.
Морскiе офицеры и гардемарины подъ руководствомъ капитана Волошина прибирали по
военному «Мститель».
Немо не выходилъ изъ каюты.
Мертвая зыбь, остатокъ воскресной бури,
улеглась. Качка была мѣрная, и страдавшихъ морской болѣзнью было
очень мало. Берега Европы скрылись. Нигдѣ не было видно ни маячныхъ, ни
судовыхъ огней. Пароходъ шелъ съ большою скоростью и не по курсу главныхъ
линiй. Поздно ночью въ подзорную трубу были видны огни Финистерскаго маяка —
«Мститель» покинулъ Европу. Взятый имъ курсъ успокаивалъ пассажировъ: — это
былъ курсъ къ Панамскому каналу, къ ос-тровамъ Галапагосъ, а отнюдь не къ
совѣтскому союзу республикъ.
Значитъ, и правда: — кинематографическая съемка.
Но… Для чего такое вооруженiе?… Почему шли съ потушенными огнями и на
мостикѣ, кромѣ штурмана неотлучно стояли на вахтѣ два
морскихъ офицера: — Русскiй и финляндецъ.
За часъ до разсвѣта барабанъ пробилъ
повѣстку къ зарѣ. Засвистали боцманскiя дудки. Спозаранку поднимали
пассажировъ, статистовъ кинематографическаго общества «Атлантида».
Mope было гладкое. Зыбь, безпокоившая вчера
при дневныхъ работахъ, прекратилась. Въ темнотѣ таинственно
свѣтилась фосфоресцирующая волна, шедшая отъ парохода. Мирiады
звѣздъ, отражаясь въ ровной поверхности океана, смягчали темноту жаркой
южной ночи.
Когда люди, вызванные сигналами, «выходйли на
верхнюю палубу, одни по одиночкѣ, Нордековская рота въ строю, блестящая
бѣлыми кителями и новенькой скрипящей кожаной аммуницiей, наступалъ
разсвѣтъ. Звѣзды погасали. Mope и небо казались бѣлыми. На западѣ,
закрывая небосклонъ, стояло громадное, сѣрое, плотное, кучевое облако.
Его круглая вершина начинала розовѣть, отражая, гдѣ то далеко,
пылающую утреннюю зарю.
Длиннобородый, сѣдой финляндецъ
Лагерхольмъ съ помощниками и Ванечкой Метелинымъ устанавливали передаточный
аппаратъ радiо-станцiи и провѣряли моторъ. Моряки разошлись по орудiямъ и
стали на бакѣ и на ютѣ. Капитанъ Волошинъ поднялся на командный
мостикъ. Амарантовъ вывелъ трубачей, Гласовъ хоръ, и они стали подъ прямымъ
угломъ къ правому флангу
роты, выстроившейся вдоль борта. У люка,
ведущаго въ трюмъ, къ камбузамъ, въ бѣлой одеждѣ и бѣлыхъ
поварскихъ колпакахъ торчали съ любопытными лицами Нифонтъ Ивановичъ и Фирсъ.
Наступала какая то отвѣтственная
серьезная минута. Безсонная, въ работѣ проведенная ночь, волненiе,
пережитое за день, безпредѣльность окружающаго ихъ океана, все это создавало
духъ поднимающее настроенiе.
Сдержанно раздавалась команда Нордекова:
— Становись!…
Чуть слышно стукнули по надраенной пескомъ палубѣ
желѣзные затылки прикладовъ. Люди равняли носки, разставляя ихъ по
ширинѣ приклада.
— Р-равняйсь!…
Нордековъ съ праваго фланга, Парчевскiй съ
лѣваго, провѣряли равненiе. Точно въ давно забытомъ снѣ
слышались такъ знакомыя поправки.
— Вѣха, осадите назадъ… Князь Ардаганскiй
вы совсѣмъ завалили правое плечо… Грудь четвертаго человѣка должны
видѣть… Шею на воротникъ… Поднимите голову… Смир-рна!…
И опять «становись», «равняйсь» и «смирно».
Все казалось недостаточно хорошо выравнена
рота.
И было такъ, какъ нѣкогда бывало на царскихъ
смотрахъ. Что то теплое подкатывало къ сердцу. Тогда съ Царемъ видѣли Россiю,
теперь, казалось, съ рождающимся въ океанѣ днемъ — воскресаетъ умершая,
потерянная Россiя…
XXIX.
Ha востокѣ вдоль океана золотая
протянулась полоса.
Въ широкомъ люкѣ, ведущемъ въ каютъ
компанiю и офицерскiя каюты показалась стройная высокая фигура Ранцева. Онъ
былъ, какъ и всѣ, въ просторномъ бѣломъ кителѣ, подхваченномъ
въ талiи ремнемъ. На ремнѣ висѣла дорогая сабля. На груди Ранцева
скромно бѣлѣлъ Георгiевскiй крестъ. На головѣ была
надѣта широкополая шляпа съ загнутымъ полемъ: очень молодилъ и красилъ
его этотъ костюмъ.
Нордековъ встрепенулся и торжественнымъ голосомъ
скомандовалъ:
— Р-рота! Шай, на кр-р-раулъ!
Въ два счета — «разъ и два» — приподнялись и
стали противъ лицъ поднятыя винтовки. Музыканты разобрали трубы. Хоръ Гласова
сталъ смирно. Молча, не здороваясь, въ полной, напряженнѣйшей тишинѣ
Ранцевъ обошелъ фронтъ роты и медленно съ нарочитою важностью поднялся на
капитанскiй мостикъ.
Въ ту же минуту ярко, нестерпимымъ блескомъ загорѣлось
солнце, краемъ показываясь изъ водъ океана.
Молодой, изъ мичмановъ военнаго времени,
вахтенный начальникъ, лейтенантъ Деревинъ, дрожащимъ отъ волненiя голосомъ, срываясь
на длинной командѣ, прокричалъ съ мостика:
— На флагъ, гюйсъ и стеньговые флаги!… На фалы
для расцвѣчиванiя!…
Матросы разбѣжались по пароходу. И снова
стала великолѣпная, несказанно волнующая, рвущая сердце тишина.
Солнце показалось изъ за небосвода и
освѣтило весь пароходъ съ неподвижно стоящими на немъ людьми.
Деревинъ командовалъ:
— Флагъ!… гюйсъ!… и флаги поднять!…
Въ тотъ же мигъ оркестръ и хоръ дружно
заиграли такъ давно неслышанный Русскiй гимнъ. Горнистъ на флангѣ, разрывая
звуки гимна, проигралъ «открытiе огня».
Съ праваго борта ударила пушка Гочкисса. Ей съ
лѣваго отвѣтила другая. «Императорскiй» салютъ въ 31 выстрѣлъ
сталъ перекатываться съ борта на бортъ подъ звуки гимна.
Невольно всѣ скосили глаза къ
кормѣ. Тамъ на мѣсто маленькаго «товаро-пассажирскаго» флачка
экзотической республики, который развѣвался на Луарѣ, въ
городѣ Сенъ Назэрѣ, величественно и красиво разворачивался
бѣлый, съ голубыми дiагоналями Русскiй Андреевскiй флагъ. На стеньгахъ
гордо раскрылись Русскiе трехцвѣтные флаги, a по стеньгамъ, отъ клотиковъ
небольшихъ мачтъ-крановъ, весь пароходъ загорѣлся пестрымъ узоромъ
маленькихъ сигнальныхъ флачковъ.
Въ рукахъ у солдатъ Нордековской роты отъ волненiя
качались ружья. У многихъ слезы текли по щекамъ.
Едва смолкъ салютъ, и послѣднiе звуки
гимна, дрожа, пронеслись надъ ставшимъ голубымъ океаномъ, — Ранцевъ громкимъ,
воодушевленнымъ голосомъ воскликнулъ:
— Русскому Государю, который будетъ… Безъ котораго
не будетъ Россiи… могучее Русское ура!…
Снова грянулъ оркестръ. Ура покатилось по
кораблю. Нифонтъ Ивановичъ сорвалъ съ головы поварской колпакъ и махалъ имъ въ
какомъ то дикомъ возбужденiи. Въ этотъ мигъ, всѣмъ этимъ людямъ, — среди
нихъ было много отчаявшихся, утратившихъ вѣру въ воскресенiе Россiи —
казалось: и точно взошло солнце и родилась съ нимъ Россiя.
— Великой Россiи ура!…
И опять гимнъ хора, гимнъ оркестра и громовое,
до хрипоты, страшное, восторженное ура.
— Р-рота къ ногѣ!…
Въ казавшейся послѣ крика и музыки
особенно внушительной тишинѣ чуть слышно стукнули винтовки.
— Музыканты, барабанщики и горнисты — на молитву!…
Мелодичный сигналъ внесъ успокоенiе въ взволнованныя
сердца.
— На молитву!
Ружья склонились къ локтю лѣвой согнутой
руки.
— Шапки долой!
Хоръ Гласова мѣрно, молитвенно тихо и
умиленно красиво запѣлъ «Отче нашъ». Къ его пѣнiю пристала рота.
Звуки росли, ширились, и точно молитва лилась и рвалась къ самому небу и не
могла быть тамъ не услышанной.
— Музыканты, барабанщики и горнисты — накройсь!…
Музыканты, барабанщики и горнисты — отбой!
Накрылись, взяли винтовки къ ногѣ.
Приказано было стать вольно.
Ванечка Метелинъ подошелъ къ радiо прiемнику и
ровнымъ, отчетливымъ, чеканнымъ, хорошо обработаннымъ для радiо-передачи
голосомъ сталъ говорить:
— Сталинъ!… Ты слышалъ?… Молотовъ и Зиновьевъ,
вы слышали?… Ворошиловъ, Буденный, Тухачевскiй, Блюхеръ, вы всѣ, красные
тираны Русской земли, вы слышали всё это?… Русскiй народъ, всѣ, кто слышали,
скажите тѣмъ, кто не слышалъ: — «Коммунизмъ умретъ — Россiя не умретъ»…
Вы слышали Русскiй гимнъ, вы слышали настоящую команду, вы слышали молитву
православныхъ Русскихъ людей, вы слышали о чемъ думаютъ, чему и какъ они
кричатъ ура… Жива Россiя!… He сломить вамъ ее вашими грязными продажными руками…
Идетъ месть… He сдобровать вамъ!… Русскiй народъ къ тебѣ идутъ
освободители… Терпи — терпѣть осталось немного!… Жди — ждать осталось
недолго!…
Было что то таинственное и страшное въ эти
мгновенiя на палубѣ «Мстителя». Будто вмѣстѣ съ радiо-волнами
потянулись далеко на востокъ, гдѣ давно уже наступилъ день какiя то
незримыя, но явно ощущаемыя нити. Онѣ связали, пока еще тонкими, легко
разрываемыми путами этотъ маленькiй плавучiй городокъ подъ Русскимъ Андреевскимъ
флагомъ съ необъятными просторами великой Россiи, стонущей подъ красными тряпками
кроваваго третьяго интернацiонала.
Радiо-прiемникъ былъ закрытъ.
Мертвая тишина стояла на палубѣ
«Мстителя». Въ этой тишинѣ сухо, четко и очень оффицiально прозвучали
слова, сказанныя Ранцевымъ:
— Начальникамъ всѣхъ степеней прибыть къ
восьми часамъ въ каютъ-компанiю. Въ восемнадцать часовъ всѣмъ собраться
безъ оружiя на верхней палубѣ… Разойтись…
Рота повернулась налѣво и рядами стала
спускаться на батарейную палубу. Было слышно только поскрипыванiе новыхъ
сапогъ, рипѣнiе кожаной аммуницiи, да
иногда кто нибудь на порогѣ люка неловко
стукнетъ прикладомъ.
Нордековъ шелъ сзади роты. Въ сущности случилось
то, о чемъ онъ всѣ эти годы мечталъ. Гдѣ то въ глубинѣ робкiй
духъ шепталъ лукавыя рѣчи. Значитъ:
— и точно — нѣтъ никакого
кинематографическаго общества «Атлантида», но они призваны спасать Россiю отъ
коммунистовъ.
Съ ротою въ триста человѣкъ?…
He авантюра-ли?…
И было страшно, смутно и жутко на душѣ у
Нордекова.
XXX.
Въ каютъ компанiю собрались задолго до восьми
часовъ. Были хмуры, молчаливы и задумчивы. Всѣмъ такъ хотѣлось
курить, говорить, обмѣняться впечатлѣнiями утра и всѣ, или
молчали, или говорили о пустякахъ. И только всегда бодрый и веселый Парчевскiй,
стоявшiй рядомъ съ Нордековымъ, шепнулъ ему со-всѣмъ тихо, такъ чтобы
никто не могъ его услышать:
— Признайся: — думаешь, а попали мы таки въ грязную
исторiйку?
Нордековъ сердито пожалъ плечами. Парчевскiй угадалъ его
мысли.
Послѣ не всегда сытой, но всегда
спокойной и безотвѣтственной жизни заграницей, вдругъ сразу, въ это
тихое, iюньское утро въ Атлантическомъ океанѣ, передъ ними всталъ во всей
сложности и опасности вопросъ о борьбѣ за Россiю.
Сколько разъ думали объ этомъ, сколько разъ обсуждали
этотъ вопросъ въ Парижскихъ мансардахъ подъ раскаленными крышами, въ сизыхъ
облакахъ табачнаго дыма, сколько разъ слушали на эту тему красивыя хлесткiя
рѣчи на собранiяхъ и банкетахъ, но никогда этотъ вопросъ не предполагалъ дѣйствiя. Мало кто думалъ, что
вотъ именно — это «я», своею шкурою, буду пробивать дорогу въ Россiю. И «ура»
кричали, и въ вѣрности вождямъ клялись — все съ тѣмъ большимъ
пыломъ, чѣмъ дальше были отъ исполненiя этихъ клятвъ.
Ихъ триста вооруженныхъ человѣкъ,
идущихъ на простомъ пароходѣ, вооруженномъ пушками Гочкисса!
Тремя стами человѣкъ освободить Россiю
отъ большевиковъ съ ихъ громадной красной армiей, съ ихъ одичалымъ, милитаризованнымъ
народомъ, гдѣ даже женщины вооружены на защиту совѣтовъ. Идти бороться
съ краснымъ воздушнымъ флотомъ, поставленнымъ нѣмцами, идти бороться въ
государство съ непревзойденнымъ шпiонажемъ, сыскомъ и агитацiей, имѣющее
въ резервѣ весь мiръ, ненавидящiй Россiю и недопускающiй возможности
возстановленiя въ ней Императорской власти. Идти опредѣленно съ
монархическими лозунгами?!
He сумасшествiе ли это?… He попали ли они въ
руки фанатика, полоумнаго, который только понапрасну погубитъ ихъ?…
Послѣ душевнаго подъема на
разсвѣтѣ, вызваннаго трогательной и красивой церемонiей подъема Русскаго
флага, послѣ музыки и слова, сказаннаго въ радiо, наступила въ этихъ
истерзанныхъ, измученныхъ, столько разъ обманутыхъ въ ихъ надеждахъ душахъ естественная
реакцiя. Такъ опошленное, но и такъ часто повторяемое въ эти тринадцать
лѣтъ слово — «авантюра» — шло на умъ не одному Нордекову. Подвигъ, къ
которому ихъ призывали, казался невыполнимымъ, a потому и безполезнымъ и
ненужнымъ.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ боялись въ
переживаемыхъ чувствахъ признаться самимъ себѣ, боялись, что другой
угадаетъ, что творится на душѣ, и потому молчали.
Ровно въ восемь часовъ по корридору, идущему
къ каютъ-компанiи раздались быстрые, четкiе шаги, портьера, отдѣлявшая
каютъ-компанiю отъ прохода широко распахнулась и въ ней появился, какъ въ
рамѣ тотъ таинственный человѣкъ, именемъ котораго и волей всѣ
они были здѣсь собраны.
Онъ былъ весь въ бѣломъ. Красивый
кортикъ на ременномъ поясѣ стягивалъ его станъ. Онъ былъ высокъ, въ
мѣру полонъ, строенъ. Смуглое лицо его было сухощаво. Голова покрыта
сѣдыми, коротко стриженными волосами. Лицо было гладко брито. Темные глаза
горѣли неугасаемымъ пламенемъ точно юношескаго цѣломудрiя.
Нордековъ скомандовалъ:
— Господа офицеры!…
Человѣкъ въ бѣломъ сдѣлалъ
шагъ впередъ и вошелъ въ каютъ-компанiю. За нимъ вошелъ, слѣдовавшiй за
нимъ Ранцевъ.
Капитанъ Немо, чуть нагибая голову, поклонился
офицерамъ. Ему отвѣтили низкимъ поклономъ.
Прошло нѣсколько долгихъ мгновенiй.
Капитанъ Немо, молча, смотрѣлъ въ глаза офицерамъ. Казалось, онъ обладалъ
способностью читать ихъ мысли. Офицеры стояли неподвижно. Многiе подъ волевымъ
взглядомъ Немо потупили глаза.
— Спасти Россiю… Это мечта каждаго изъ насъ съ
самаго перваго дня этой проклятой революцiи, — негромко, чеканнымъ и яснымъ
голосомъ началъ Немо. И сразу было видно, что этотъ человѣкъ не привыкъ
говорить, что онъ не умѣетъ говорить, но знаетъ, что сказать и
сумѣетъ это сказать.
— Какъ спасти?… Какими такими силами?… Сила
есть только одна: — сила самого Русскаго народа… Мы знаемъ, что онъ въ разумной
и болѣе зрѣлой своей части ненавидитъ большевиковъ и созданный ими
анафемскiй строй. Молодежь — наоборотъ… Она обманута, развращена… Ничего
другого она не видала и не знаетъ… Ей внушили, что раньше, «при царяхъ» еще
хуже было. Прошлое оклеветано. Кромѣ того — ужасный сыскъ и терроръ. Люди
затравлены… запуганы… Они и рады бы возстать, и не могутъ… Они возмущаются, ихъ
возстанiя подавляются съ необычайною, садическою что ли? жестокостью. Эта
жестокость остается неотомщенной… Прибавьте къ этому, что за ними, работая для
нихъ, стоитъ весь, погрязшiй въ матерiализмѣ и практицизмѣ, такъ
называемый — культурный мiръ. Ему ненавистна христiанская, православная,
вѣровавшая въ Бога старая Императорская Россiя. Этотъ мiръ не дастъ
большевикамъ пасть. И мы должны признать, что насъ ожидаетъ война не только съ
большевиками, но и со всѣмъ мiромъ…
Этотъ человѣкъ хорошо былъ
освѣдомленъ. Онъ зналъ положенiе вещей и, во всякомъ случаѣ, онъ не
строилъ себѣ иллюзiй.
Легкiй вздохъ раздался въ наступившей на мигъ
тишинѣ.
— To есть, конечно, это не такъ… не
совсѣмъ такъ, — продолжалъ Немо. — Весь мiръ, именно, весь мiръ
ненавидитъ коммунистовъ не меньшею ненавистью, чѣмъ мы. Но во главѣ
правительствъ вездѣ стоятъ соцiалисты, младшiе братья коммунистовъ, и мы
присутствуемъ при странномъ и совсѣмъ неестествеиномъ союзѣ
капитала съ коммунизмомъ. Мiръ усталъ послѣ войны. Современная Европа —
это выпашь, истощенное поле, не могущее ничего родить. Мiръ сталъ трусливъ и
мягкотѣлъ. Его мечты: — миръ, разоруженiя, отсутствiе кошмарнаго призрака
войны. Коммунисты застращиваютъ его своими — жестокостью, наглостью и пуганiемъ
войною.
Капитанъ Немо остановился. Было похоже, что
онъ потерялъ нить своей мысли. Онъ строго и пытливо обвелъ глазами офицеровъ.
— Надо повести неумолкающую ни на минуту, мощную
пропаганду о вредѣ коммунизма. Надо вездѣ, и заграницей и въ Россiи
повторять объ этомъ. Слово, пѣнiе, музыка, газета, книга, радiо,
кинематографъ, театръ, церковная кафедра, — все… все… все должно кричать
противъ коммунистовъ… Надо во всей Россiи поднять повсемѣстное возстанiе. Надо возставшимъ дать начальниковъ и
руководителей, надо вооружить ихъ… Надо лютою, жидовскою местью мстить
тѣмъ, кто пойдетъ подавлять это возстанiе… Надо тамъ, въ самой Россiи,
создать въ противовѣсъ красной армiи свою Русскую армiю. Надо пробудить самосознанiе и духъ смѣлой предпрiимчивости
въ старшемъ поколѣнiи, надо открыть глаза молодежи. Вотъ, задача Русской
эмиграцiи, если она хочетъ быть достойной своего великаго отечества. Вотъ та
задача, которую я поставилъ себѣ и вамъ, кого я обманомъ позвалъ идти за
собою.
Капитанъ Немо на минуту опустилъ свою голову.
Онъ ее сейчасъ и поднялъ и съ большою силою продолжалъ:
— Я часто слышалъ, какъ говорили: — «почему у насъ
нѣтъ своего Муссолини?… Почему среди насъ не появится свой Русскiй
Хитлеръ, который поведетъ насъ къ спасенiю Родины?» Я бы уже скорѣе
сказалъ: — «почему въ двадцатомъ вѣкѣ невозможно повторенiе семнадцатаго
вѣка, и нѣтъ среди насъ ни Мининыхъ ни Пожарскихъ?»… Праздный
вопросъ, господа. Минины и Пожарскiе, Муссолини и Хитлеры не могутъ родиться на
чужой сухой почвѣ. Они требуютъ родного чернозема. Великiй Князь Николай
Николаевичъ говорилъ: — «если бы мы могли имѣть хотя одну квадратную версту
своей, Русской земли, мы могли бы работать…»
Мы этой квадратной версты, гдѣ мы можемъ дѣлать все, что мы хотимъ,
до сего времени не имѣли. И потому жестокiе безумцы тѣ, кто
упрекаетъ нашихъ «вождей» въ томъ, что они никуда не ведутъ. Надо работать…
Надо вести пропаганду… Надо поставить радiо… Кто позволитъ?… Надо послать на
аэропланахъ, — ибо какъ же иначе? — подмогу возстающимъ въ Россiи. Кто
позволитъ купить, кто выпуститъ, да еще вооруженный аэропланъ, направленный въ
совѣтскую республику, которой всѣ боятся, которою всѣ
подкуплены и передъ которой всѣ заискиваютъ… Безъ свободной базы нельзя
ничего дѣлать.
Капитанъ Немо сдѣлалъ длинную паузу.
Было слышно, какъ подъ килемъ быстро идущаго парохода шумѣла вода океана
и мѣрно стучала машина.
— Я эту базу имѣю. Я васъ везу на эту
базу. Оттуда мы можемъ говорить, пѣть и играть такъ, какъ мы это
сдѣлали сегодня при подъемѣ флага и все, что мы захотимъ, чтобы
слышали въ Россiи или заграницей то и будетъ слышно, благодаря прекраснымъ
изобрѣтенiямъ, секретомъ коихъ обладаю я. Я одинъ… Тамъ мы можемъ
свободно и никого не боясь изготовлять такiя средства борьбы, которыхъ никто не
знаетъ и съ которыми и васъ, такихъ малочисленныхъ будетъ достаточно, чтобы
застращать самыхъ вѣрныхъ, самыхъ преданныхъ слугъ третьяго интернацiонала…
Тамъ я смогу безпрепятственно собрать изготовленные для кинематографическаго
общества «Атлантида» аэропланы и распорядиться ими такъ, какъ я хочу. Послать
ихъ, куда хочу, и съ кѣмъ и чѣмъ хочу…
Нѣсколько минутъ капитанъ Немо молчалъ.
Потомъ съ неукротимой волей продолжалъ. Въ его страстномъ голосѣ,
рѣзко и четко раздававшемся по каютъ компанiи былъ такой увѣренный
приказъ, что холодъ пробѣжалъ по жиламъ Нордекова и ноги его обмякли.
— Я пошлю ихъ… Полетите туда, въ Россiю… вы…
Вы, кого я изберу… Кого назначу… Кому
прикажу… Кого признаю достойнымъ этого счастливаго жребiя… Но вы полетите
туда во всеоружiи знанiя. Тамъ, гдѣ триста человѣкъ ополчились на
войну съ цѣлымъ мiромъ, тамъ нельзя воевать винтовками и пушками и
дѣйствовать конными атаками. Тамъ: — страшный ядъ… обманъ…
Переодѣванiе въ одежды противника. Пользованiе его средствами… Тамъ
поднятiе противъ врага населенiя и ужасная неслыханная месть предателямъ и
тѣмъ, кто пойдетъ усмирять возставшихъ…
Капитанъ Немо еще разъ окинулъ острымъ взглядомъ
внимательно слушавшихъ его офицеровъ.
Одни стояли смѣло, съ вызовомъ глядя въ
глаза Немо. Ихъ глаза говорили: «пошли меня… Меня, въ первую очередь». Другiе потупились
въ смущенiи. Грандiозность плана ихъ подавляла. Новизна пугала. Такъ просто
было маршировать и дѣлать ружейные прiемы и такъ казалось совсѣмъ
не простымъ летѣть въ Россiю и тамъ дѣйствовать ядами и обманомъ.
Капитанъ Немо оглянулся на Ранцева. Тотъ
стоялъ прямо, на вытяжку, глядя острымъ немигающимъ взглядомъ въ глаза офицеровъ,
точно запоминалъ онъ выраженiя ихъ лицъ, чтобы въ будущемъ знать, кто чего
стоитъ.
— Однако, одной вашей Русской работы мало.
Когда поднимется возстанiе въ Россiи, когда Русскiе станутъ одолѣвать
коммунистовъ, тогда на защиту ихъ встанетъ весь капиталистическiй мiръ, и мы
должны быть готовы парализовать его работу, запугать его такъ же, какъ
запугивали и запугиваютъ его коммунисты. Для этого мною взяты иностранцы,
французы и нѣмцы. Эти люди, такъ же, какъ и вы, поняли весь вредъ
коммунизма и они такiе же страстные, смѣлые и непоколебимые враги его,
какъ и вы.
Стало яснѣе въ головахъ тѣхъ, кто
волновался вчера, кого пугала авантюра. Авантюра то оставалась, но какъ то по
новому она выглядѣла, и въ этомъ новомъ была надежда на успѣхъ.
Когда смотрѣли на Немо — эта надежда обращалась въ вѣру, такъ
смѣло и просто смотрѣлъ онъ на всѣ трудности, которыя
понималъ и ненедооцѣнивалъ.
Опять стало тихо въ каютъ-компанiи. Съ палубы
доносилось согласное пѣнiе — хоръ Гласова спѣвался къ новому
концерту для радiо.
XXXI.
— Мнѣ пришлось васъ всѣхъ обмануть…
— сказалъ послѣ долгаго молчанiя капитанъ Немо. — Кинематографическое
общество «Атлантида»… Зачѣмъ это?… Отчего такое святое, чистое и прямое
дѣло, какъ спасенiе Россiи… всего мiра отъ коммунистовъ, начинать съ обмана?…
А, какъ же, господа, было поступить иначе? Ни средствъ, ни времени, ни людей,
ни знанiй не хватило бы, чтобы все создавать самому. Нужны заводы, фабрики,
нужна вся эта безумная техника современнаго мiра, чтобы все приготовить скоро,
дешево и хорошо. Готовить для Россiи оружiе, оборудовать совсѣмъ особенную
химическую лабораторiю, строить радiоаппараты, заказывать части аэроплановъ,
наконецъ, собрать цѣлую роту молодыхъ людей и обучать ихъ военному строю,
да кто же и гдѣ это позволитъ? При теперешнемъ то сыскѣ, при
теперешней то жаждѣ обо всемъ, мало-мальски пахнущемъ войною, доносить по
начальству — мигомъ все отобрали бы, выслали бы, а то и арестовали бы… Но все
это — для развлеченiя толпы.. Совсѣмъ другое дѣло… Развѣ не
замѣтили вы, что кинематографъ, футъболъ, матчи боксеровъ, все, что собираетъ
большiя, ревущiя отъ восторга толпы, пользуется совсѣмъ особыми правами.
Имъ подчинены дипломаты, ихъ слушаютъ парламенты и въ палатѣ депутатовъ
къ нимъ особенно внимательны… Сколько вещей, морально совсѣмъ недопустимыхъ,
показываютъ въ кинематографѣ, боксерскiе поединки обратились въ
гладiаторскiя игры, гдѣ часто смерть ожидаетъ одного изъ борющихся. Но
это все позволено, ибо — для толпы — этого подлиннаго тирана современнаго мiра…
Толпа, а она вездѣ, на заводахъ, въ таможняхъ, на верфяхъ, — толпа
привѣтствовала мысль какого то анонимнаго общества «Атлантида» поставить
нѣчто совсѣмъ изъ ряда вонъ выходящее, нѣчто потрясающее, и
она одобрила и покупку парохода, оборудованнаго, какъ крейсеръ и даже его вооруженiе.
Для кинематографа!!… А скажи я, что это нужно, чтобы какая нибудь
совѣтская лодка, пронюхавъ о нашемъ путешествiи, не настигла насъ въ
дорогѣ, — и сейчасъ же пошли бы запросы въ палатѣ, разговоры объ
интервенцiи и вмѣшательствѣ во внутреннiя дѣла дружественнаго
государства!
— Но неужели никто такъ таки и не догадался и
не заподозрилъ? — несмѣло спросилъ Парчевскiй.
Капитанъ Немо такъ себя поставилъ, что,
казалось, нельзя было ему задавать вопросовъ. И, если бы капитанъ Немо
совсѣмъ не отвѣтилъ на вопросъ, никому и въ голову не пришло бы
обижаться.
Но капитанъ Немо отвѣтилъ съ полною
готовностью и очень любезно.
— Конечно, не только догадывались, но и прямо
знали, для чего это дѣлается. Заказать десятки тысячъ ружей и тысячи
пулеметовъ… не для кинематографа же
это было нужно?… Такъ
же какъ и миллiоны патроновъ. Знали, и потому на верхахъ, гдѣ отлично
понимаютъ весь роковой вредъ коммунистовъ намъ всячески помогали… Они
вѣдь связаны толпою, и они привѣтствовали, что мы замаскировали
себя отъ толпы обществомъ «Атлантида».
— Почему вы, господинъ капитанъ, не сказали намъ
этого сразу? Какъ намъ все было бы легче. Хотя бы нѣкоторымъ,
довѣреннымъ… И безъ того догадывающимся, — сказалъ генералъ Чекомасовъ.
— Какъ могъ я сказать объ этомъ въ
Парижѣ?… У каждаго есть родные, близкiе, знакомые… Наконецъ, въ
порядкѣ своей дисциплины, многiе проболтали бы о моей тайнѣ. И она
стала бы достоянiемъ толпы. Появились бы вездѣсущiе газетные репортеры, и
все дѣло было бы сорвано, еще не начавшись. Сколько было тому
примѣровъ! Вспомните, какъ мы ни береглись, а какая то анкета была… Кому
то, и бѣлому притомъ, было нужно знать, что же это за кинематографическая
съемка, о которой въ кинематографическомъ мiрѣ какъ разъ и не говорятъ…
Вѣрьте мнѣ, господа, пока эмиграцiя не научится молчать, какъ
умѣютъ молчать въ совѣтской республикѣ, иначе поступать
нельзя.
Казалось, капитанъ Немо кончилъ. Онъ
сдѣлалъ движенiе, опять нѣчто въ родѣ поклона, чтобы уходить,
но тутъ осмѣлѣвшiй Нордековъ задалъ ему волновавшiй его вопросъ.
— Намъ все-таки неясно… Повидимому, вы предполагаете
вести войну съ большевиками совсѣмъ особеннымъ образомъ: — пропагандой,
газами, аэропланами, словомъ какъ то по новому… Такъ для чего же вамъ понадобилась
старая муштровка, повороты, ружейные прiемы, маршировка подъ барабанъ,
наконецъ, наша однообразная одежда, форма, такъ сказать, эти сабли? — Нордековъ
не безъ тщеславнаго удовольствiя прикоснулся къ блестящимъ ножнамъ
висѣвшей у него на боку сабли.
Немо укоризненно покачалъ головой. Точно говорилъ
онъ: — «какъ же вы позабыли, что это азбука военнаго дѣла».
— Муштровка, мундиръ, оружiе, всегда носимое —
создаютъ солдата. Когда придемъ на мѣсто, придется и ротныя ученiя
пройти, и пострѣлять, и стрѣлковому дѣлу поучиться. Вамъ, именно
вамъ, придется стать учителями и создателями той Русской армiи, которая должна
будетъ замѣнить красную армiю. Какъ же вы создадите изъ крестьянина колхозника,
изъ рабочаго, изъ Соловецкаго или Нарымскаго узника и ссыльно-поселеннаго
доблестнаго солдата Русской армiи, какъ не этими старыми, вѣрными,
испытанными и ничѣмъ незамѣненными и незамѣнимыми путями и
методами? Одни изъ васъ ихъ основательно позабыли, другiе и вовсе не знали.
Мнѣ надо было ихъ вамъ напомнить… Ну и для кинематографа тоже… Толпѣ
это понятно,что въ кинематографѣ войска должны быть и молодцовато
выправленными и хорошо муштрованными… Теперь когда вы знаете, что васъ ожидаетъ…
Я никого не неволю… Силою заставлять кого бы то ни было спасать Россiю я не
намѣренъ… Могу… но не хочу… Кто изъ васъ не желаетъ, считаетъ, что я его
обманулъ?… Тому заявить Петру Сергѣевичу Ранцеву о томъ… Отпустить, вы
сами понимаете, такихъ людей до срока я не могу… Слишкомъ много они знаютъ. Тотъ
будетъ жить на острову… и сниматься… для фильмы въ обществѣ «Атлантида»… Согласно
съ контрактомъ — въ теченiе года…
Натянутыя улыбки появились на лицахъ
офицеровъ.
Капитанъ Немо поклонился и вышелъ въ сопровожденiи
Ранцева изъ каютъ-компанiи.
XXXII.
Въ шесть часовъ вечера пассажиры «Мстителя»
стали собираться на палубѣ. На ней уже были сдѣланы нѣкоторыя
приготовленiя для показа чего то. Большая часть палубы на ютѣ была
отгорожена шнуркомъ, и за нимъ въ большомъ соломенномъ пароходномъ креслѣ
сидѣла, развалясь, обезьяна. Она была одѣта въ бѣлый тропическiй
костюмъ, свободно на ней висѣвшiй. Ея коричневая голова, покрытая
рѣдкими, сбитыми, неприглаженными волосами, похожими на шерсть, ея морщинистое
лицо, поросшее клочьями сѣдыхъ и бурыхъ волосъ, носъ, широкими открытыми
ноздрями торчащiй впередъ, маленькiе, острые, сверлящiе глазки, все это было
такое нечеловѣческое, обезьянье, что многiе и точно были далеко не
увѣрены, что передъ ними человѣкъ. Два нѣмца изъ четвертаго
взвода Нордековской роты были при ней. Въ довершенiе возможности предположенiя,
что это и точно была обезьяна, тутъ же подлѣ стояли ящики съ морскими
свинками и кроликами, будто и впрямь пассажирамъ «Мстителя» собирались показать
какой то звѣринецъ. Электрическiй моторъ, ящики съ склянками, шесты на
штативахъ были поставлены кругомъ обезьяны.
— Глянь, какой страшный… Что же это за
звѣрюга такая?… — безцеремонно показывая на обезьяну пальцемъ, спрашивалъ
Фирсъ Агафошкинъ, протискавшiйся въ первые ряды.
— Человѣкъ это, али нарочно, такъ для
обмана, сдѣлано?
Вопросы и замѣчанiя Фирса создавали въ
толпѣ смѣшливое, не серьезное настроенiе. Ожидали какого то,
забавнаго, занятнаго представленiя и, конечно, никакого отношенiя не могущаго
имѣть къ такому дѣлу, какъ спасенiе Россiи.
Команды: — «смирно» и «господа офицеры» прекратили
шутки и разговоры.
Ранцевъ вышелъ на палубу.
— Господа офицеры, — сказалъ онъ. — Прошу стоять
вольно и прослушать мои объясненiя.
Онъ подошелъ къ обезьянѣ и поздоровался
съ нею.
— Глянь, какая ученая, — прошепталъ Фирсъ. — Лапку
даетъ, совсѣмъ, ну — человѣкъ.
— Господа, — сказалъ Ранцевъ, — позвольте вамъ
представить нашего сотрудника, знаменитаго химика Карла Леопольдовича
Вундерлиха.
— Профессора Вундерлиха, — приподнимаясь съ кресла,
— сказала обезьяна.
— Профессора Вундерлиха, — поправился Ранцевъ.
— Когда вамъ придется работать въ Россiи,
постоянная опасность доведетъ ваши нервы до страшнаго напряженiя и вамъ будетъ
нужно гдѣ то отдохнуть, собраться съ силами, перевооружиться, приготовить
все вамъ нужное въ полной безопасности, зная, что никто вамъ не можетъ
помѣшать… Вамъ тамъ надо будетъ имѣть собственную базу…
Обезьяна приподнялась и рукою тронула Ранцева,
показывая, что она будетъ сама объяснять.
Ранцевъ отошелъ въ сторону.
— Когда ви биль дѣти, — начала обезьяна,
моргая маленькими глазами и хитро поглядывая на окружавшихъ ее пассажировъ
«Мстителя». — Когда ви биль маленьки, ви играль въ «кошка-мишка». Кошка
появилась — миши въ домъ. Большевикъ это кошка… Ви — миши… Большевикъ появился
— мишамъ надо спрятаться… Достать нельзя.
Вундерлихъ сказалъ нѣсколько словъ
по-нѣмецки солдатамъ и тѣ поставили у бортовъ шесты съ зажимами.
Вундерлихъ показалъ на шесты.
— Слихаль въ банкахъ, у кассъ пускаютъ такой лучъ…
Человѣкъ пошель — его убьютъ… Вотъ это тоже мои лучи. Здѣсь
пускайтъ, тамъ принимайтъ… Далеко, хоть десять километровъ… Кто идетъ между,
тотъ попадаетъ въ лучи… Ви сидитъ въ домъ, за эти шести. Миши идутъ… Теперь,
смотрите, что происхождайтъ.
Онъ досталъ изъ ящика маленькую стеклянную баночку
съ бѣлымъ порошкомъ и далъ ее солдату.
Тотъ укрѣпилъ ее на одномъ изъ
штативовъ, давая направленiе стрѣлкѣ къ другому штативу, стоявшему
у противоположнаго борта. Моторъ сталъ неслышно работать.
— Ви ничего не видитъ. Ничево и нѣтъ.
Можете ходить сколько угодно. Пожальте ко мнѣ.
Но никто не двигался съ мѣста. Все было
такъ таинственно, что казалось страшнымъ.
— Пожальте… Пожальте, ничего не боись. Ничего
страшнаго.
Всѣ жались другъ къ другу, никто не
трогался съ мѣста.
— Факсъ, иди ко мнѣ, — сказалъ Ранцевъ.
Ферфаксовъ, стоявшiй у борта послушно и
смѣло, легкой охотничьей походкой прошелъ между шестами къ Ранцеву и
обратно.
— Нишего и ньѣтъ, — кривясь въ
безобразной усмѣшкѣ, сказалъ Вундерлихъ… — Теперь пускаю. Это смѣхучiй…
Кто идетъ — смѣется… Хочетъ, не хочетъ — смѣется.. Дольго…
Цѣлiй часъ смѣется.. такой смѣхачъ… Идти не можетъ… Поворачивайтъ
назадъ… Спазма… Надо докторъ… Н-ню, между прочимъ… блягополюшна… Смѣхъ
это здорово… Ошень хорошо для пишшеваренiй. Н-ню, кто желайтъ?… Маленькiй
смѣхачъ.
— Господа, — сказалъ Ранцевъ, желаете попробовать.
Ничего опаснаго для здоровья нѣтъ. Это вы будете употреблять, когда
пожелаете оградить себя отъ ненужныхъ глазъ и ушей, но не желаете дѣлать
зло.
Фирсъ Агафошкинъ стоялъ сбоку и впереди
всѣхъ. Въ бѣломъ колпакѣ и поварскомъ фартукѣ онъ глупо
ухмылялся, видимо сильно захваченный всѣмъ, что тутъ показывалось.
— Н-ну, — протянулъ онъ. — Нюжли же такая штука,
чтобы смѣяться, ежели я, къ примѣру, плакать хочу?
— Иди, Фирсъ, — подтолкнулъ его Мишель Строговъ,
стоявшiй рядомъ съ нимъ.
— А что?… He пойду?… — куражась и выступая
впередъ, сказалъ Фирсъ. Онъ чувствовалъ себя предметомъ всеобщаго вниманiя и
это подмывало его. — Отчего не пойти?… Да я!… Съ Ереминскаго хутора казаки да
ничего такого не пугались. Что мнѣ обезьяна сдѣлаетъ?… Подойду и
скажу: — «дай мнѣ лапку, какъ генералу подавала»… Что тутъ страшнаго.
Одна химiя и только.
Прикрывая сгибомъ локтя лицо и точно бросаясь черезъ
огонь, Фирсъ Агафошкинъ стремительно побѣжалъ къ Вундерлиху.
Но, едва онъ дошелъ до линiи между штативами,
какъ точно какая то невидимая сила откинула его назадъ. Онъ схватился руками за
животъ и кинулся обратно въ толпу, сгрудившуюся подлѣ шканцевъ.
— Ха-ха-ха, — вопилъ онъ, корчась отъ
смѣха. — Хо-хо-хо… Вотъ умора то!… Ой-ой-ой… — Обезьяна то!… ха-ха-а!…
Это было такъ странно и неожиданно, что кое
кто не повѣрилъ. Казалось, что Фирсъ просто дуритъ, представляется… Молодой
летчикъ Вѣха пошелъ медленными осторожными шагами черезъ невидимый лучъ.
Но едва дошелъ до него, какъ повернулъ обратно. Видно было, какъ онъ
всѣми силами старался удержать смѣхъ. Лицо его кривило спазмой,
наконецъ, прорвало и —
— Ха-ха-ха, ха-ха-ха… — присоединилъ онъ свой
смѣхъ къ неистовому дикому хохоту Фирса.
Еще два, три человѣка бросились, пытаясь
быстро проскочить роковую полосу, но и ихъ невидимая сила отбрасывала и они
корчились въ спазмахъ смѣха. Всѣхъ ихъ переловилъ докторъ
Пономаревъ и повелъ въ прiемный покой отпаивать и успокаивать. И долго по трапамъ
и корридорамъ парохода раздавалось неистовое, истерическое:
— Ха-ха-ха… хи-хи-хи… хо-хо-хо!…
XXXIII.
Ранцевъ остановилъ токъ. Помощникъ Вундерлиха
вынулъ склянку. Профессоръ досталъ изъ ящика колбочку съ розовымъ порошкомъ. Ее
вставили на мѣсто прежней.
— Теперь, — самодовольно говорилъ Вундерлихъ,
— это плакучiй. Кто теперь идетъ — плакать будетъ… Горько плакать… Н-ню тоже не
опасно для здоровья ничуть… Слезы это тоже иногда ошень карашо… Успокаивайтъ
нервы.
Но плакать, повидимому, никому не
хотѣлось.
«Волевой» человѣкъ Мишель Строговъ, —
ему эти опыты чрезвычайно понравились, въ нихъ онъ увидалъ хорошее средство
испытанiя воли — вышелъ впередъ.
— Н-ну, — съ сомнѣнiемъ въ голосѣ
протянулъ онъ и пошелъ твердыми шагами боксера, идущаго на противника черезъ
полосу. Было видно, какъ, вступивъ въ промежутокъ между шестами, онъ заставлялъ
себя сдѣлать еще шагъ, но потомъ схватился за глаза руками и быстро
пошелъ назадъ. Слезы градомъ лились изъ подъ пальцевъ. Непроизвольная спазма
рыданiй кривила лицо. Онъ уже не въ силахъ былъ дольше держаться и громко
зарыдалъ. Докторъ Пономаревъ подхватилъ его подъ руки и бережно повелъ внизъ.
Зрители стояли, нахмурившись. Никто не пожелалъ повторять опыта Мишеля
Строгова.
Склянку съ розовымъ порошкомъ вынули, самъ Вундерлихъ
пошелъ вставлять въ штативъ новую скляночку съ сѣрымъ порошкомъ.
Онъ обратился къ Ранцеву:
— Я попросилъ бы васъ поставить офицеръ впередъ,
чтобы никто не ходилъ теперь. Это ошень опасный лучъ… Это «капучiй»… Теперь,
кто идетъ… большевикъ… шмерть…
Его помощники перенесли кроликовъ и морскихъ
свинокъ къ публикѣ. На палубѣ было томительно тихо.
— Знаешь, — прошепталъ Парчевскiй, обращаясь
къ Нордекову, — совсѣмъ, какъ въ циркѣ передъ какимъ нибудь
опаснымъ сальто мортале. И чего не придумалъ человѣкъ? He даромъ онъ и на
человѣка не похожъ…
— Fertig? — спросилъ Вундерлихъ.
— Jawohl, — отвѣтилъ помощникъ,
державшiй клѣтки.
— Пускайте кроликъ и швиней.
— He надо… не надо, — раздались голоса. —
Вѣримъ и такъ!
Кролики и свинки побѣжали за приманкой.
Едва они достигли роковой черты, какъ стали падать и дрыгать лапками въ
смертельной конвульсiи.
Тяжелая тишина стояла на палубѣ.
Помощники Вундерлиха выбросили тѣла свинокъ и кроликовъ за бортъ на
съѣденiе акуламъ. Всѣ вдругъ заговорили.
— Да… Ну и придумано, — сказалъ Нордековъ. —
Дьявольская какая штука.
— А какъ же противъ большевиковъ то! Другого
средства нѣтъ!… Травить ихъ, подлецовъ надо, — сказалъ Амарантовъ.
— Это какъ въ крѣпости, за такими
лучами.
— Если не вретъ профессоръ, что на десять
верстъ идетъ его лучъ такъ лучше всякой крѣпости.
— Изъ пушекъ пали, не долетитъ.
— Главное, господа, то, что можно поставить въ
любомъ мѣстѣ.
— И притомъ совершенно непримѣтно.
— Д-да… Это не авантюра.
— Какая тамъ авантюра!… Самого Сталина
смѣяться заставимъ.
— А потомъ и плакать…
Возбужденiе становилось сильнѣе. Люди
перемѣшались и какъ то не замѣтили, какъ Вундерлихъ съ его аппаратами
исчезъ, точно сквозь палубу провалился. На мѣсто его «штучекъ» поставили
небольшой радiо-прiемникъ и завели моторъ. Хоръ Амарантова и пѣвчiе Гласова
приблизились къ нимъ.
Вечеръ былъ тихъ и прохладенъ. «Мститель» несся
по спокойному океану. Передъ нимъ спускалось къ морской равнинѣ румяное
солнце.
ХХХIV.
Высокiй сѣдобородый финляндецъ подошелъ
къ аппарату и сталъ объяснять его устройство.
— Господа, если кто изъ васъ знакомъ съ аппаратами
радiо, тотъ можетъ видѣть, что мой аппаратъ нѣсколько иного устройства,
чѣмъ всѣ практикуемые теперь аппараты. Сейчасъ въ Европейской
Россiи позднiй вечеръ. Во всѣхъ казармахъ, въ лагеряхъ, въ клубахъ
красныхъ командировъ, въ избахъ читальняхъ люди собрались подлѣ своихъ и
общественныхъ радiо-аппаратовъ, чтобы слушать объявленную программу. Я беру
своимъ приборомъ ихъ волну. Я слушаю ихъ, и потомъ я пускаю особую свою волну.
Назначенiе ея съѣсть, такъ сказать, ихъ волну, уничтожить ее, не
заглушить шумомъ, какъ это дѣлается обыкновенно, но просто парализовать
ее. Я не буду объяснять вамъ техническихъ подробностей, какъ это дѣлается.
Скажу только, я заставляю ихъ аппараты замолчать, и сейчасъ же пускаю свою
волну и она имъ всюду, гдѣ они приготовились слушать свое даетъ наше. Я
имъ навязываю въ ихъ же аппараты свою программу. Сегодняшняя наша программа
предназначена для красной армiи по преимуществу. У нихъ сегодня… — Лагерхольмъ
вынулъ записочку — у нихъ сегодня… въ эти часы… Да.. .Станцiя «имени Коминтерна»: — «Комсомольская
Правда» — это передача газетнаго номера. «Крестьянскiя передачи», — «Музыка
танца», станцiя «Опытный передатчикъ»:
— «часъ пiонера и школьника», «лекцiя по физ-культурѣ» и «Русскiя
пѣсни».. Какъ видите, программа небогатая и какъ далеко ей до
европейскихъ программъ. Возьмемъ для начала станцiю «имени Коминтерна».
Лагерхольмъ покрутилъ кружки, навелъ,
прислушался, навелъ еще, повернулъ аппаратъ, и сейчасъ же ясно и четко, будто
тутъ рядомъ кто то говорилъ, раздалось:
— Бюрократизмъ, помноженный на
безотвѣтственность, сложенный съ нелегкой организацiей аппарата даетъ
вотъ какiе плоды…
— Ну, это очевидно «Комсомольская Правда» передаетъ
содержанiе своего номера. Итакъ мы начинаемъ вмѣсто ихъ скучной, всѣмъ
въ зубахъ навязшей чепухи
подавать нашу
программу. Викторъ Павловичъ, прошу начинать…
Амарантовъ взмахнулъ бѣлой палочкой.
— Разъ, два, три… четыре…
Прекрасный оркестръ заигралъ старинный «Петровскiй»
маршъ.
Какъ только онъ кончилъ, хоръ Гласова,
дополняя и освѣщая то, что игралось запѣлъ:
— Знаютъ турки
насъ и шведы
И про насъ
извѣстенъ свѣтъ…
На сраженья, на
побѣды
Насъ всегда самъ
царь ведетъ…
Красивымъ переливомъ, понизивъ голоса,
пѣвчiе продолжали:
— Съ нами трудъ
онъ раздѣляетъ,
Съ нами онъ всегда
въ бояхъ,
Счастьемъ всякъ
изъ насъ считаетъ —
Умереть въ его
глазахъ…
— Кто тамъ въ Россiи слыхалъ когда эту
пѣсню, тотъ пусть ее вспомнитъ, кто никогда не слыхалъ, пусть узнаетъ во
что вѣрила, чему служила старая Русская армiя, — сказалъ Ранцевъ.
Послѣ пѣвчихъ къ аппарату подошелъ
Ванечка Метелинъ и своимъ красивымъ, приспособленнымъ для радiо голосомъ сталъ
говорить:
— Слушайте Русскiе, что вамъ говоритъ Русская
Правда: — «Русскiй царь Александръ Второй уничтожилъ крѣпостное право… Да
будетъ имя его благословенно во вѣки!… Инородецъ коммунистъ Сталинъ возстановилъ
крѣпостное право. — Да будетъ его имя проклято во вѣки!»
Снова заигралъ оркестръ. Съ рѣдкимъ
подъемомъ — музыкантамъ казалось, что они видятъ необъятную Россiю, слушающую
ихъ черезъ сотни радiо — оркестръ игралъ «увертюру 1812-го года» Чайковскаго.
Настроенiе оркестра передавалось и слушателямъ
на палубѣ. Всѣ задумались, всѣ притихли… Мысли каждаго были
тамъ, куда невидимыя волны несли прекрасную музыку, полную патрiотическаго
порыва и вдохновенiя.
Программа продолжалась.
— «Братская пѣсня», — провозгласилъ
Метелинъ. И съ молитвеннымъ умиленiемъ началъ:
— Вѣйся
бѣло-сине-красный,
Братскiй Крестный
Стягъ…
Всѣ — къ
прекрасной цѣли ясной!…
Сгинетъ красный
врагъ!…
Ужъ даетъ святые
всходы
Братскiй нашъ
посѣвъ!…
Съ братскимъ
знаменемъ свободы
Встанетъ Русскiй
гнѣвъ!
И придетъ на гибель
Змiю
Русской Правды
часъ.
Господи!… Спаси
Россiю!…
И помилуй насъ!…
Павшимъ — рай!… На
бой живые!…
Коммунизмъ умретъ!…
Съ нами Богъ!…
Жива Россiя!…
За нее впередъ!…
Глубоко задумавшись стоялъ Нордековъ. Онъ даже
не слышалъ, какъ прекрасный баритонъ Гласовскаго хора запѣлъ пѣсню
о Кудеярѣ.
«Если все это меня такъ волнуетъ», — думалъ
Нордековъ. — «Что же должны испытывать въ Россiи, гдѣ одни никогда не слыхали
такого смѣлаго слова, такого открытаго призыва къ борьбѣ и
побѣдѣ, другiе, можетъ быть, когда и слыхали, да совсѣмъ
позабыли и опустились въ тяжелой повседневной жизни. Господи, спаси Россiю и
помилуй насъ!
И, если это будетъ каждый день… постоянно будить,
сѣять новыя мысли, толкать на борьбу? Отъ слова родится дѣло… И мы
ему поможемъ»…
Въ его мысли ворвались громкiя и
убѣдительныя слова Метелина. Онъ опять стоялъ у аппарата.
— Красноармеецъ!… Зачѣмъ у тебя голова
на плечахъ и штыкъ въ рукахъ… Чтобъ помогать держать твою мать Россiю въ
рабствѣ?… Кому ты долженъ передъ своею совѣстью служить?… Народу?…
А?… Народу?!… Народу?!! Такъ и служи народу. Избавь его отъ разбойничьяго
Антихристова ига… Подымай на штыки комиссаровъ!… Требуй отъ Русскихъ
начальниковъ, чтобы вели тебя добывать Русскую власть и Русскую свободу!…
Становись подъ Русское знамя!… Коммунизмъ умретъ — Россiя не умретъ…
— Вотъ это, ваше высокоблагородiе, — сказалъ
незамѣтно подошедшiй къ Нордекову Нифонтъ Ивано вичъ, — и точно утѣшительное
слово. Радостно слушать… Нехай тамъ послухаютъ и вникнутъ…
Солнце заходило. Оно коснулось краемъ морскихъ
просторовъ. Трубачъ протрубилъ повѣстку къ зарѣ. Рота Нордекова
стала строиться на повѣрку. Радiо концертъ былъ конченъ.
Когда расходились по каютамъ у всѣхъ
была одна мысль.
«Да, это для Россiи…. Да, это за Россiю… Это
не наша прошлая партiйная грызня… Это точно настоящее дѣло… Кто намъ тутъ
на «Мстителѣ» посмѣетъ помѣшать дѣлать, что мы хотимъ,
что мы признаемъ нужнымъ… А, когда будетъ не палуба парохода, а цѣлые
острова Галапагосъ!?…»
Эти люди послѣ столькихъ лѣтъ
эмигрантскаго отчаянiя, слабости, упадка духа, первый разъ чувствовали себя
сильными, твердыми, способными на дѣло спасенiя Родины, стойкими для
борьбы. Съ вѣрою и уваженiемъ они думали о томъ, кто все это среди
эмигрантскаго хаоса, разсѣянiя и безтолочи придумалъ, организовалъ, создалъ
и устроилъ и кто скрылся подъ такимъ страннымъ именемъ:
—
Капитанъ Немо.
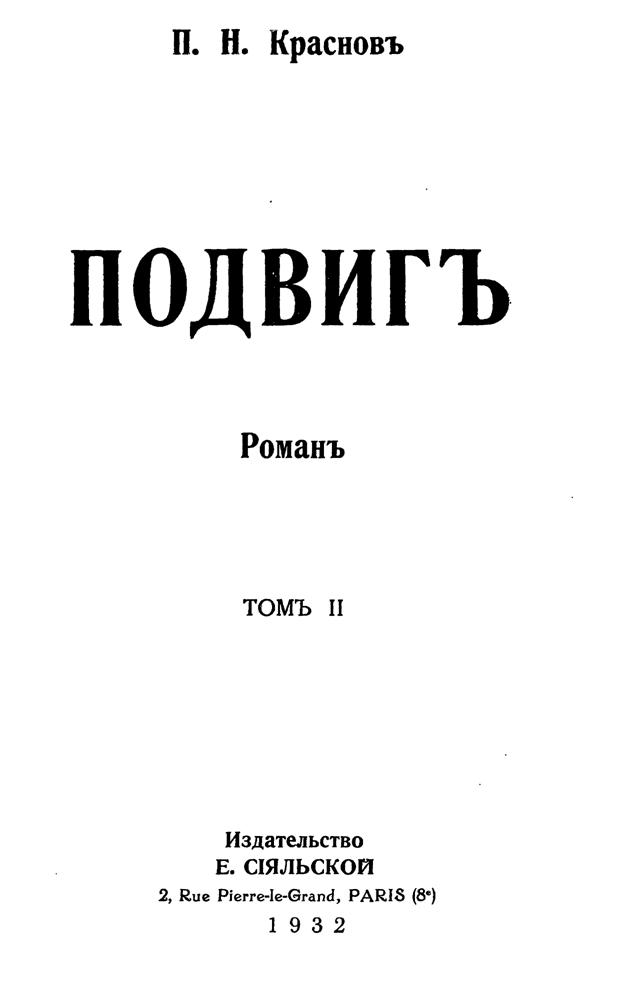
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
ОСТРОВА ГАЛАПАГОСЪ
Галапагосскiе
острова — названiе принадлежащаго къ южно-американской республикѣ Эквадору
и лежащаго по обѣ стороны экватора между 70° и 74° з. д. (отъ Гринвича)
архипелага изъ 11 большихъ и малыхъ острововъ (Islotes) изъ которыхъ Альбермаль
(427б кв. км.) самый большой, занимаютъ вмѣстѣ пространство въ 7643
кв. км. Всѣ они вулканическаго происхожденiя и возвышаются до 1500 м.
надъ уровнемъ моря…
…Несмотря на то,
что эти острова лежатъ въ разстоянiи лишь 1000 км. отъ материка, ихъ флора, птицы,
рыбы и земноводныя представляютъ по большей части такiя особенности въ своемъ
устройствѣ, какихъ вовсе не встрѣчается на материкѣ…
…Они долго
назывались заколдованными (escantados) островами, потому что при господствующемъ
тамъ быстромъ теченiи и безвѣтрiи до нихъ трудно добраться и не
меннѣе трудно удалиться отъ нихъ…
«Энциклопедическiй
словарь Брокгауза и Ефрона».
I.
Подъ вечеръ на горизонтѣ показался берегъ.
Дулъ порывистый, рѣзкiй, знойный вѣтеръ. Онъ несъ съ собою дыханiе
земли. Пахло пряными травами и цвѣтами. Сильно качало.
Острый и высокiй носъ парохода вдругъ поднимался
и заслонялъ собою далекую, мутную линiю берега, опѣненнаго сильнымъ
прибоемъ, и тогда не было видно океана, но передъ глазами зловѣще
горѣло красными огнями закатное небо. Лиловыя густыя облака тѣснились
подъ небосводомъ. Потомъ вдругъ съ грохотомъ и плескомъ пароходъ обрушивался въ
волны, зарывался въ нихъ, обдавая пѣною и брызгами немногихъ пассажировъ,
стоявшихъ на бакѣ и тогда передъ глазами были безконечные ряды волнъ,
несущихся въ непрерывной чередѣ навстрѣчу пароходу. Бѣлые
гребни вспыхивали и погасали въ утомительномъ однообразiи.
На бакѣ подлѣ лейтенанта Деревина
собралось нѣсколько человѣкъ. Къ нимъ подошелъ мучимый морской
болѣзнью Нордековъ и прислушался къ тому, что разсказывалъ молодой
лейтенантъ .
Деревинъ съ апломбомъ настоящаго морского волка,
бывалаго моряка, показывалъ пальцемъ вдаль и объяснялъ, что и гдѣ
находится.
— Это, господа, передъ нами группа большихъ Антильскихъ
острововъ направо, а тамъ къ лѣвому борту чуть намѣчаются малые
Антильскiе острова. Вотъ это должно быть Санъ Доминго, тамъ Порто Рико. Мы направляемся,
держимъ курсъ, — поправился онъ — на проливъ Мона.
— Вы развѣ тутъ когда бывали? — спросилъ
Нордековъ.
Деревину не хотѣлось признаться, что это
первое его настоящее плаванiе. Онъ скосилъ глаза на полковника, сдѣлалъ
видъ, что не слышалъ вопроса и продолжалъ разсказывать то, что сообразилъ, стоя
на вахтѣ и глядя на карту, гдѣ былъ проложенъ ихъ путь.
— Я полагаю, мы ночью пройдемъ проливъ… Вотъ
качать то будетъ! — Сашка держись — начинается! — кое кто основательно рыбокъ
покормитъ… Завтра за день пересѣчемъ Антильское море и къ ночи подойдемъ
къ Панамскому каналу. Вотъ я не знаю, какъ проходить то его будемъ, сейчасъ же
ночью, или днемъ. Жуткое, знаете, мѣсто. Я бы того… Пушки то къ чортовой
матери… Въ океанъ… Придраться могутъ… Вмѣсто родимаго то нашего
Андреевскаго флага опять какой нибудь Вампукистый вывѣсилъ, чтобы и не
разобрать, что за нацiя… А то — таможни… Досмотръ… То да се… Америка… Сами
понимаете, шутки босы съ этимъ народомъ…
— У насъ сухой режимъ, — пробасилъ Амарантовъ.
— Чего ей больше надо. Рюмки коньяку нигдѣ не найдешь…
— Ну, а нащупаютъ аэропланы… Вонъ у полковника
винтовки совсѣмъ открыто въ пирамидахъ стоять… Что хорошаго? Еще хорошо,
что волна. Никого не видно. Рыбачьихъ лодокъ и тѣхъ нѣтъ… А то
тутъ, въ Антильскомъ морѣ, застукаютъ и никуда не подашься.
Подводная какая нибудь этакая лодка.
— А да ну васъ, — недовольно сказалъ
Нордековъ. — Что вы каркаете. Тошно и безъ васъ.
Онъ отошелъ отъ группы и спустился въ каюту.
Тамъ на койкѣ лежалъ его соплаватель Парчевскiй. Несмотря на жару онъ укуталъ
полотенцемъ голову и закрылся одѣяломъ. При входѣ Нордекова онъ
повернулся къ нему и болѣзненно застоналъ.
— Что это, Георгiй Димитрiевичъ, — капризно
проговорилъ онъ. — Когда же все это кончится? Не могу я больше. Всѣ мои
внутренности наизнанку выворотило. Я не нанимался плавать по морямъ.. .
— Вы думаете, мнѣ то легче, —
укладываясь на койку, проворчалъ Нордековъ.
— Хоть бы малюсенькую этакую рюмашечку коньяку..
Я у доктора нашего просилъ. Принесъ валерьяновыхъ капель, а отъ нихъ еще хуже
мутитъ. Говоритъ, что коньяку нѣтъ… Вретъ, поди. Не можетъ того быть,
чтобы у доктора, да коньяку не нашлось. Вѣдь умирающимъ даютъ… Правда,
Георгiй Димитрiевичъ? А я почти что умирающiй…
— Тутъ, Евгенiй Ивановичъ, другое меня
мучаетъ. Мы и точно идемъ на острова Галапагосъ. Не для съемокъ же?.. Скажите
мнѣ, что же все это значитъ? Вооружены до зубовъ. Всю Совдепiю своими
Вундерлиховыми газами задушить можемъ, а премъ на острова Галапагосъ… И
вѣдь это не тайна. Объ островахъ то этихъ основательно кричали въ
Парижѣ. Это не какiе нибудь тамъ совсѣмъ необитаемые острова. Тамъ,
я читалъ какъ то въ газетахъ, уже поселился какой то нѣмецъ… Поди и радiо
найдется. Разгружаться то станемъ… Все и станетъ ясно, что мы за публика…
Интервенты… Острова принадлежатъ республикѣ Экуадоръ. Вы не знаете,
кстати, что республика то эта признала совѣты, или нѣтъ? А если,
знаете, признала, да тамъ уже и полпредство есть… Вотъ вы и подумайте, милый,
чѣмъ все это можетъ окончиться.
— Думать, Георгiй Димитрiевичъ, никакъ не
могу.
То мѣсто, которымъ думаютъ,
перемѣстилось у меня на другое совсѣмъ мѣсто. Плохо
мнѣ.
— А я, какъ стану думать и качку позабуду и
такъ мнѣ станетъ неспокойно. А что ежели да онъ просто сумасшедшiй?… Вотъ
вѣдь забавная исторiйка то выйдетъ!…
Нордековъ поднялся съ койки.
— Вы куда же?
— Томитъ меня. Не могу я такъ пребывать въ неизвѣстности.
Я и качку не чую. Пойду посмотрю, какъ и куда несетъ насъ эта страшная сила.
На палубѣ было пусто. Тропическая ночь
наступила. Шли съ погашенными огнями. Ни на клотикахъ, ни бортовыхъ фонарей
зажжено не было. Флаги были убраны. Пароходъ несся, пѣня волны и
колыхаясь на нихъ. Вдоль борта, ловко соразмѣряя свои шаги съ качкой,
прямой и стройный ходилъ взадъ и впередъ Ранцевъ. Его увѣренный видъ
немного успокоилъ Нордекова. Онъ хотѣлъ было подойти къ нему и заговорить,
но побоялся.
Нордековъ постоялъ у борта. Зловѣщая,
нелюдимая ночь была кругомъ. Тучи закрыли полъ неба. Не было видно
звѣздъ, и только блистала, сверкала, сполохомъ играла и вспыхивала за
Антильскими Островами синяя пламенная зарница. Она, отражаясь въ кипѣнiи
волнъ, серебромъ зажигала пѣну. Мiръ казался страшнымъ.
Нордекову, какъ часто эти дни, пришла въ
голову навязчивая мысль, «что какъ ничего этого и нѣтъ… Есть только сонъ…
Небытiе… зловѣщiе призраки… Непонятная и неуютная жизнь… Господи,
неужели, авантюра?… Обманъ честныхъ и простодушныхъ Русскихъ офицеровъ!…
II.
Передъ разсвѣтомъ Нордековъ вышелъ на
бакъ. Тамъ уже были Мишель Строговъ, Фирсъ Агафошкинъ и князь Ардаганскiй.
Михако, вооружившись биноклемъ, смотрѣлъ вдаль.
Качка продолжалась. Нордековъ изъ за нея и своихъ
тяжелыхъ навязчивыхъ мыслей не спалъ всю ночь и теперь чувствовалъ себя
совсѣмъ скверно. Въ мозгахъ и у него, какъ у Парчевскаго, что то
передвинулось и онъ ничего не могъ толкомъ сообразить.
Михако и Строговъ спорили о томъ, могли за
ночь пройти Антильское море и Панамскiй каналъ или нѣтъ.
— Ну что вы, князь, — сказалъ Нордековъ. —
Какъ бы мы скоро ни шли, дай Богъ къ разсвѣту подойти ко входу въ каналъ.
А тамъ неизбѣжныя формальности… Да по каналу, слыхалъ я, ходятъ такъ
тихо, что почти сутки надо потратить на его прохожденiе.
— Но тогда, господинъ полковникъ, что же это
такое? Я тамъ, съ нашего праваго борта вижу въ бинокль сплошной берегъ. Какой
же это можетъ быть бе-регъ, какъ не Американскiй? И смотрите, какъ восходитъ
солнце. He сзади, а съ лѣваго борта. Мы идемъ на югъ.
— Вѣрно… Послушайте, князь. Я ничего
толкомъ сообразить не могу. Это отъ качки вѣроятно. Если мы прошли каналъ
и повернули на югъ вдоль Американскаго берега, это Колумбiя. Она должна быть у
насъ съ лѣвой стороны… Такъ… А вы говорите, что берегъ виденъ съ праваго
борта. Да берегъ ли это?
— Берегъ… A то что же?
— А чортъ его знаетъ что. Впрочемъ, послушайте…
Мы идемъ по вашему вдоль берега на югъ. Солнце, значитъ, должно восходить изъ
за Америки. Америка должна быть на востокъ отъ насъ… А между тѣмъ солнце
восходитъ… Восходитъ… Гдѣ?… Въ океанѣ.
Къ нимъ подошелъ Нифонтъ Ивановичъ и прислушался
къ ихъ спору.
— Постой, — сказалъ съ самоувѣренно
глупымъ видомъ Мишель Строговъ, трогая отца за рукавъ. — Что ты говоришь,
Америка на востокѣ… Америка… Какъ же это можетъ быгь… Америка всегда на
западѣ.
Это разсужденiе точно ошеломило полковника.
— Какъ на западѣ?…
— Конечно, на западѣ, — подтвердилъ и
князь Ардаганскiй. — Японiя и Дальнiй востокъ на востокѣ. Вѣдь
тогда по вашему выходитъ, что Японiя и Дальнiй Востокъ на западѣ. Страна
Восходящаго солнца… A солнце всегда восходитъ на востокѣ. Какъ же востокъ
можетъ быть ыа западѣ…
Полковника серьезно укачивало. Было мгновенiе,
когда явилась потребность подойти быстро къ борту, но онъ удержался, и отъ этого
еще хуже стала работать голова.
— Вы, Михако, говорите какую то ерунду. Какъ
востокъ на западѣ?
— Это вы такъ сказали, господинъ полковникъ.
— Да, это сказалъ я. He отрицаю. Принимая шарообразность
земли, если ѣхать на западъ — прiѣдешь на востокъ.
— Ну что ты, — съ прежнимъ апломбомъ все знающаго
человѣка сказалъ Мишель. — Колумбъ ѣхалъ все на западъ и
прiѣхалъ въ Америку.
— Да, конечно, въ Америку. Онъ и открылъ Америку,
— подтвердилъ князь Ардаганскiй.
Полковникъ начиналъ раздражаться.
— Это все потому, князь, — сказалъ онъ, — что
вы учились въ иностранной школѣ… Васъ не основательно учили… Если мы,
такъ сказать, проткнули Америку, пройдя каналъ, мы оставили ее сзади себя и она
очутилась на востокѣ.
— Опять Америка на востокѣ, — съ досадою
наотца сказалъ Мишель. — Этого никогда не можетъ быть.
Полковника такъ качнуло, что онъ едва сдержался.
Надо было бѣжать въ каюту, но ноги стали какъ изъ ваты… Голова мутилась.
Эта новая молодежь хоть кого могла довести до морской болѣзни.
— Дозвольте, ваше вышкородiе, я васъ примирю,
— довѣрительно сказалъ Фирсъ Агафошкикъ. — Я такъ полагаю, что это все
происходитъ отъ качки. Вчора лейтенантъ Деревинъ очень даже явственно объяснялъ.
Отъ качки происходитъ девiацiя компаса и отъ того не разберешь, гдѣ какая
сторона.
— Молчи, обормотъ, — вмѣшался Нифонтъ
Ивановичъ. — Что ты можешь понимать, когда образованные люди въ толкъ не
возьмутъ, что происходитъ. Солнышко, ваше высокоблагородiе, точно изъ за моря
восходитъ, какъ и вчора, какъ и третьева дня, какъ а завсегда. Потому такъ ему
отъ Господа положоно. И солнышко завсегда изъ воды восходитъ, потому такъ Господь
сотворилъ, чтобы ему омыться можно было.
— А да ну васъ, — съ досадою крикнулъ полковникъ
и, прижимая платокъ ко рту, побѣжалъ къ борту. Постоявъ надъ волнами, онъ
съ сине-зеленымъ лицомъ, шатаясь и хватаясь за что попало, — ноги его
совсѣмъ не держали — прошелъ къ люку и сталъ спускаться въ каюту.
Онъ легъ на койку и съ головою укутался въ
одѣяло. Голова, ставшая было ледяной, начала согрѣваться и
соображенiе возвратилось къ нему.
«Конечно, «Мститель», не доходя Панамскаго
канала, повернулъ на югъ. Почему?… Потому ли, что опять обманъ, или съ такимъ
контръ-революцiоннымъ грузомъ не рискнули идти черезъ каналъ? Можетъ быть и по
радiо передали, чтобы не совались туда… Значитъ, идемъ кругомъ Америки. Значитъ…
Все таки?… Острова Галапагосъ?… Какъ вее это глупо выходитъ.
Нордековъ подѣлился своими мыслями съ
Парчевскимъ, но тотъ отнесся ко всему этому холодно.
— Идемъ къ Фалкландскимъ островамъ, будемъ
огибать мысъ Горнъ. Тутъ, дорогой, грустно одно, что значитъ, намъ безъ конца
предстоитъ болтыхаться по этимъ проклятымъ морямъ.
Неожиданная перемѣна курса была
замѣчена и другими пассажирами «Мстителя», и снова начались «разговорчики».
Капитанъ Волошинъ сказалъ, что «Мститель» тщательно
избѣгалъ курса «большихъ» линiй, по которому идутъ пароходы изъ Европы въ
порты Южной Америки: — Паранаибо, Пару, Пернамбуко, Бахiю и Рiо де Жанейро. Онъ
взялъ курсъ какъ будто къ острову святого Павла и направлялся въ таинственную и
самую глубокую часть Атлантическаго океака, въ такъ называемый «ровъ Романша»,
гдѣ морская карта показывала глубину до 7370 метровъ, гдѣ
рѣдкiе въ этихъ частяхъ океана мореплаватели отмѣтили частыя
землетрясенiя и появленiе и исчезновенiе скалъ и острововъ. «Мститель»
срѣзалъ на своемъ таинственномъ курсѣ Саргассово море, гдѣ
плаванiе почиталось опаснымъ, шелъ навстрѣчу невѣдомымъ морскимъ
теченiямъ, тамъ, гдѣ годами не бываетъ ни одного парохода, ни одного
паруснаго судна, гдѣ точно пустыня залегла въ океанѣ.
Французы матросы болтали о морскихъ
змѣяхъ въ нѣсколько сотъ метровъ длиною, объ ундинахъ, наполовину
женщинахъ, наполовину рыбахъ. Говорили объ особыхъ водоросляхъ запутывающихъ
пароходные винты до такой степени, что они ломаются. Разсказывали и старую
легенду о «Летучемъ Голландцѣ», о кораблѣ, непремѣнно
парусномъ, идущемъ наперерѣзъ курса, безъ людей и капитана… Боялись
встрѣчи съ нимъ. Она всегда предвѣщала несчастiе.
Жара, качка, неизвѣстность, куда же,
наконецъ, идутъ, все это усиливало нервность пассажировъ. Хоръ не пѣлъ.
Музыка не играла, и по каютамъ и въ помѣщенiи команды тихо шептались и
передавали слухи и свои наблюденiя за отстоянныя вахты.
«Мститель» шелъ неровно. По ночамъ онъ часто
стоялъ. Машина не работала. Онъ мѣнялъ курсъ. Точно онъ искалъ что то,
или ожидалъ кого то.
Въ каютъ компанiи состоялось собранiе старшихъ
чиновъ. Подъ давленiемъ младшихъ, въ виду ихъ нервности, было вынесено
постановленiе выразить недовѣрiе капитану Немо, отправить для этого къ
нему депутацiю и потребовать объяснеиiй.
Ранцевъ доложилъ о происшедшемъ капитану Немо.
— Скажи имъ, — твердо, раздѣльно
произнося каждое слово, сказалъ Немо, — пусть явятся ко мнѣ. Я надѣну
на нихъ кандалы и прикажу гирляндой повѣсить на нокахъ рей. Или мы
офицеры и идемъ уничтожать коммунистовъ, или мы глупыя, нервныя бабы… У насъ нѣтъ
больше кинематографическаго общества, это всѣ теперь знаютъ, но есть
отрядъ людей, готовыхъ все, до самой жизни, отдать за Родину. Я требую отъ нихъ
дисциплины, повиновенiя и бодрости… Бодрости, этого высшаго качества офицера… Понялъ?…
Ранцевъ передалъ слова капитана Немо старшимъ.
Тѣ промолчали и смирились.
Въ эту ночь усиленно работало радiо. Оно
подавало сигналы бѣдствiя: S.O.S. Радiо взывало о помощи. Оно говорило,
что пароходъ «Немезида», вышедшiй 9-го iюня изъ порта Сенъ Назэръ съ артистами
кинематографическаго общества «Атлантида» получилъ въ открытомъ морѣ по
неизвѣстнымъ причинамъ пробоину и тонетъ. Радiо указывало координаты къ
востоку отъ острова Санъ Доминго, тамъ, гдѣ «Мститель» былъ пять дней
тому назадъ.
И это стало извѣстно въ каютъ компанiи.
Но теперь всѣ мрачно молчали. «Значитъ такъ надо. Значитъ, спасать Россiю
надо было людьми, которыхъ всѣ считаютъ погибшими… Людьми —
«отпѣтыми»… Можетъ быть это и правильно»…
Но мучительною болью сжимались сердца за родныхъ,
за женъ и дѣтей. Особенно — за женъ. При тяжелой и полной всякихъ
соблазновъ Парижской жизни, что, если жены то за это время повыйдутъ замужъ, на
самомъ законномъ основанiи считая себя вдовами?
По просьбѣ Ферфаксова Ранцевъ доложилъ
все это капитану Немо. Тотъ глубоко задумался. Что то размягчеиное и
нѣжное появилось въ его обыкновенно суровыхъ и строгихъ глазахъ. Какъ
удивился бы Ранцевъ, если бы онъ могъ понять и постигнуть, чей образъ вдругъ
всталъ въ памяти его начальника и друга.
— Такъ скоро замужъ не выйдутъ, — задумчиво
сказалъ Немо. — Передай, чтобы не безпокоились и не волновались… При первомъ же
случаѣ, а онъ будетъ очень скоро, — я дамъ знать всѣмъ семьямъ, что
ихъ главы живы и здоровы. Это, конечно, рискъ… Но что же дѣлать.
Онъ помолчалъ. Потомъ, горько
усмѣхнувшись, добавилъ:
— Мы идемъ спасать Россiю… Теперь всѣ
это знаютъ… Сомнѣнiй быть не можетъ… Мы клялись все ей отдать… Такъ
неужели же ей не отдадимъ женъ нашихъ и дѣтей?… Какъ ты отдалъ… свою дочь…
Россiя требуетъ жертвъ… Посмотри, что дѣлается тамъ… Какой тамъ ужасъ…
Родителей отрываютъ отъ дѣтей, мужей отъ женъ и отправляютъ въ голодную,
кошмарную ссылку… Мы идемъ прекратить это. Такъ пожертвуемъ же спокойствiемъ
нашихъ близкихъ. Ужели недостойна Россiя этой жертвы?… И пусть догадаются и
поймутъ… Это же нужно… Особенно въ виду «разговорчиковъ» нужно…
И еше прошла мучительная, полная скрытыхъ волненiй
недѣля. Mope успокоилось. И съ его успокоенiемъ, казалось, успокаивались
и нервы у пассажировъ «Мстителя». Вѣтеръ стихъ. Полный штиль сталъ надъ
моремъ.
Океанъ былъ, какъ голубое масло.
III.
Утро было несказаныо прекрасное. И, какъ это
бываетъ подъ тропиками, оно народилось вдругъ, безъ призрачныхъ сумерекъ, безъ
блѣднаго и больного разсвѣта. Сразу въ темноту ворвались
свѣтлые, еще далекiе, заокеанскiе лучи, розовой пеленой подернулась
водная равнина, и — вотъ оно — въ золотой порфирѣ, слѣпя горячими
лучами, неслось въ небесную твердь румяное, точно заспавшаяся на горячей
пуховой подушкѣ полная красавица, солнце! Ослѣпительно заблисталъ
недвижный, ни однимъ дуновенiемъ вѣтерка непоколебленный океанъ.
«Мститель» бѣжалъ ровнымъ
увѣреннымъ бѣгомъ. Въ обѣ стороны отъ киля съ тихимъ
шипѣнiемъ расходились серебряныя полосы, становились все шире и ниже,
отливали перламутромъ и исчезали подъ самымъ небосводомъ. Съ высокаго борта
были видны громадныя, толстыя, шарообразныя медузы. Изъ подъ ихъ полупрозрачныхъ
шапокъ свисали не то щупальцы, не то листья и тихо колебались, то ли отъ
движенiя водныхъ струй, то ли потому, что онѣ были живыя. Ихъ тѣла
горѣли опаловыми, загадочными огнями. Въ сонной водѣ, озаряемой
косыми солнечными лучами играли стайки голубыхъ стройныхъ рыбокъ.
— Макрель, — сказалъ Нифонтъ Ивановичъ. Онъ только
что заварилъ на всю команду чай и вылѣзъ изъ своего горячаго камбуза
вздохнуть на вольномъ воздухѣ и полюбоваться Божьимъ мiромъ. — Ежели бы,
скажемъ, сѣть забросить, ба-альшой уловъ получить можно. Только рыба
здѣсь, позволительно сказать — дрянь… Никакого съ ей проку нѣтъ.
На палубу поднимались пассажиры. Послѣ
качки все не могли оправиться, да и тропическая жара размаривала.
Полковникъ Парчевскiй вышелъ въ легкой пестрой
пижамѣ и въ широкой соломенной шляпѣ.
Чуть слышно, мѣрно и ровно, работали
нефтяные Дизеля. Пароходъ точно дышалъ, подаваясь впередъ.
Въ ясномъ небѣ видно было далеко.
Голубой сводъ безъ облака, синее море безъ морщинки и горитъ, горитъ, не желая
погаснуть, золотая полоса на востокѣ. Океанъ жадно отражалъ солнечный
блескъ.
Къ старому Агафошкину подходили пассажиры.
Пришелъ и Нордековъ, хмурый, съ помятымъ желтымъ лицомъ. На протянутыя ему для
здорованiя руки недовольно покосился.
—Извиняюсь, господа, еще не умывался.
— Ваше высокоблагородiе, — довѣрительно,
как къ своему, съ одной виллы «Les Coccinelles» пришедшему сюда, будто своему
однохуторцу обратился къ нему Нифонтъ Ивановичъ. — И чего въ толкъ не возьму. У
насъ, скажемъ, Донъ и Азовское море. Ну — ры-ыбы — несосвѣтимая сила.
Осетры… Бывало Императо ру въ презентъ готовимъ, Гниловская станица займется,
постарается, ей Богу — въ сажень! Мясо тебѣ плотное, хоть ножомъ его
рѣжь, опять же судакъ. Самъ цвѣтной, полосатый, а мясо тебѣ
бѣлое и ну вкусное же… Или красноперые чекомасы. Вкусъ у нихъ… Особливо
ежели въ маслѣ или въ сметанѣ прожарить… Тутъ развѣ рыба?… He
поймешь ничего… Она и свѣжая воняетъ. Чуть заглядѣлся — и
расползлась. Жевать станешь, ну чистая резина. А уже казалось бы такiя моря,
что тутъ то бы осетрамъ раздолье. Или, можетъ, на днѣ сидятъ?.. Они на
днѣ то больно любятъ… Въ илъ зароется и не поймешь, корчага, али осетеръ.
Нифонтъ Ивановичъ, прикрывъ глаза,
оглядѣлъ небосводъ. Онъ остановилъ взоръ, вдаль устремленный и примолкъ.
— Корабль, — тихо, какъ бы про себя, сказалъ
онъ. Всѣ посмотрѣли туда, куда показывалъ старикъ, но никто ничего
не увидалъ.
— А можетъ такъ попричтилось.
— А что вы видите?
— Да быдто темная какая точка… Да оно такъ и
есть.
Князь Ардаганскiй побѣжалъ внизъ за
биноклемъ. На корабельномъ курсѣ появилась и быстро вырастала какая то
точка.
— Точно средневѣковый замокъ въ
развалинахъ. На Рейнѣ такiе я видалъ, — вздыхая сказалъ Деревинъ. — Но
только это не можетъ быть островъ. На картѣ, — я на вахтѣ сейчасъ
стоялъ, — ничего нѣтъ на нашемъ курсѣ.
— Однако сами видите — островъ, — сердито сказалъ
Мишель Строговъ. — На картѣ мало ли чего не показано. Все наше путешествiе
ни на какой картѣ показано не можетъ быть… Тайна… Ну и островъ таинственный.
— Вмѣсто острововъ Галапагосъ —
таинственный островъ капитана Немо, — округляя веселые выпуклые глаза, сказалъ
Ардаганскiй и опять впился въ бинокль. — Островъ, знаете, и есть… И преунылый
какой то островъ… Хотя и очень красиво. Островъ принцессы Грезы… А, Мишель?…
Можетъ, тамъ спящая красавица, и какимъ Флорестаномъ вы явитесь къ ней.
Пароходъ держалъ курсъ на островъ. Уже простыми
глазами были видны его очертанiя. Скалы въ солнечныхъ лучахъ казались розовыми.
Онѣ выдвигались изь воды и правда походили на развалины громаднаго,
циклопическаго замка. Подъ скалами былъ зеленый лугъ, опоясанный пѣнистой
полосой прибоя.
На командномъ мостикѣ появилось
начальство, капитаны Волошинъ и Ольсоне и два офицера финна.
Вахтенный приказалъ пробить повѣстку къ
поднятiю флага. Пассажиры разошлись по каютамъ, чтобы одѣться и привести
себя въ порядокъ. Всѣ были взволнованы. Наконецъ, приближались они къ
конечной цѣли путешествiя, къ той таинственной, недоступной ни для чьего
наблюденiя базѣ, которую нужно
было имѣть капитану Немо. Теперь поняли, какъ во всемъ онъ былъ правъ, какъ
все было продумано. Вотъ почему они перемѣнили курсъ, вотъ почему не
пошли на острова Галапагосъ, про которые всѣмъ было извѣстно, вотъ
почему подавали сигналы бѣдствiя, и шли къ этому странному нелюдимому
острову… Но что же это былъ за островъ?…
Къ нему подходилъ съ гордо рѣявшимъ за
кормою Андреевскимъ флагомъ «Мститель». Онъ задержалъ свой бѣгъ. На носу мѣряли
глубину. Спецiалисты подводныхъ камней и скалъ — финны — всматривались въ
океанскiя глубины. Машинный телеграфъ часто отзванивалъ. Машина застопорила.
Пароходъ шелъ по инерцiи.
Островъ былъ почти правильной круглой формы.
Его ничѣмъ неизрѣзанные берега не представляли надежнаго
мѣста для остановки. И опять стало понятно, почему такъ долго бродили по
океану: — ждали тихой погоды и спокойнаго моря.
Бросили якоря.
Совсѣмъ близко былъ песчаный
бѣлесоватый берегъ. Кое гдѣ черныя скалы и камни торчали изъ песка.
Надъ пляжемъ краснымъ обрывомъ поднимался берегъ. Тамъ былъ зеленый лугъ.
Мелкiй кустарникъ поросъ по нему. Почти посерединѣ острова, ближе къ
южной его окраинѣ, бросая сейчасъ тѣнь, закрывавшую западную часть
острова, вздымалась крутая гора съ обрывистыми, скалистыми краями, похожими на
обломки кратера потухшаго вулкана.
Простыми глазами была видна на той горѣ
высокая бѣлая мачта. У основанiя ея, какъ муха иа куполѣ собора,
возился сейчасъ какой то человѣкъ.
Вахтенный скомандовалъ: — «по орудiямъ». Горнистъ
протрубилъ: — «открытiе огня».
Медленно, едва колышимый въ недвижномъ
знойномъ воздухѣ, ярко освѣщенный солнцемъ, поднимался,
разворачиваясь на флагштокѣ мачты, громадный флагъ.
Въ то же мгновенiе рѣзко ударили
выстрѣлы салюта.
Флагъ точно ожидалъ ихъ. Онъ коснулся верхнимъ
краемъ клотика, дрогнулъ, на мгновенiе развернулся во всю длину и сеичасъ же
опалъ, приникнувъ къ дереву мачты.
Флагъ этотъ былъ — Р у с с к i й.
IV.
На пароходѣ шла «авральная» работа.
Всѣ были вызваны наверхъ, каждому было указано, что дѣлать. Все
закипѣло. Бѣшенымъ темпомъ шла разгрузка парохода. Застучали
паровыя лебедки подъ кранами и поползли на цѣпяхъ и канатахъ изъ
нѣдръ трюма тяжелые ящики.
Да, все было предусмотрѣно. Первыми были
подняты и спущены на воду желѣзные понтоны. Офицеры, бывшiе понтонеры,
скрѣпляли ихъ, настилали досками и нагружали аэропланными частями,
палатками, разборными бараками, моторами, тяжелыми и громоздкими предметами.
Одновременно спустили паровые катера для буксировки понтоновъ и начали свозить
на шлюпкахъ людей, чтобы принимать на берегу доставляемыя вещи.
На первой шлюпкѣ отправились Ранцевъ и
по его приказанiю — Нордековъ, Арановъ, Вундерлихъ, Лагерхольмъ и старый
Агафошкинъ.
Гребцы взялись за весла.
— Господа, прошу сейчасъ же вмѣстѣ
со мною выбрать мѣста для палаточнаго лагеря роты, для аэропланныхъ
ангаровъ, для вашей лабораторiи, профессоръ, для станцiи радiо, — сказалъ
Ранцевъ. — А ты, станица, отыщи хорошую воду и установи кухни, чтобы вечернiй
ужинъ былъ уже на берегу.
Островъ былъ унылый и необитаемый. По крайней мѣрѣ
никакихъ пирогъ съ дикарями ие показалось навстрѣчу шлюпкѣ, и не
было видно того человѣка, что крѣпилъ Русскiй флагъ… «Да и было ли
это все, — думалъ Нордековъ, — «не было ли все это опять сонное и странное
видѣнiе»?
Шлюпка коснулась дна. Всѣ спрыгнули въ
воду и пошли къ берегу. Намытый песокъ пляжа упирался въ красно земельный обрывъ.
Вскарабкались на него и пошли къ скаламъ по зеленому, покрытому невысокою,
жирною травою лугу. Попадались кусты и кактусы. Кусты были мелкихъ миртовыхъ
породъ съ маленькими жесткими листиками и крошечными бѣлыми
цвѣточками. Кое гдѣ росъ кривой, карявый можжевельникъ. Вьющiяся
растенiя съ большими, мягкими, свѣтлозелеными, круглыми листьями,
гирляндами свѣшивались съ него. Ничего живого не попадалось. He было даже
ящерицъ. Птицы не щебетали. Островъ былъ нѣмъ и мертвъ.
Вдругъ, и такъ неожиданно, что всѣ
вздрогнули и прiостановились, изъ за скалъ показался высокiй сѣдой
старикъ. Онъ быстро шелъ навстрѣчу. Рваныя полы темной одежды, будто черкески,
болтались у колѣнъ. Бѣлая мохнатая шапка, съ алымъ когда то,
верхомъ была надѣта на голову. За плечами у него было ружье, сбоку болталась
шашка, оправленная въ серебро. Самъ онъ былъ высокiй, плотный,
мѣшковатый, шелъ, чуть переваливаясь, широко загребая носками привычныхъ
къ ходьбѣ ногъ. Когда онъ былъ ближе, разсмотрѣли на черкескѣ
алые погоны съ тремя бѣлыми лычками и кресты и медали на гозыряхъ съ
мѣдными патронами.
Шагахъ въ ста старый урядникъ прiостановился, приглядѣлся,
точно нацѣливаясь, кто же здѣсь главный, кому рапортовать и яснымъ
казачьимъ глазомъ опредѣлилъ вѣрно: — онъ направился прямо къ
Ранцеву.
Очъ подошелъ, остановился, приложилъ руку къ
папахѣ, и четко, стариковскимъ голосомъ отрапортовалъ:
— Ваше превосходительство, на Россiйскомъ
острову за цей рiкъ нiякихъ происшествiй не було. Чи капытанъ Немовъ не зъ вами
будэ?…
— Капитанъ Немо еще на пароходѣ. Я его
замѣститель — Ранцевъ. Ты что же здѣсь дѣлаешь, старикъ?
— Хранитель тай харнизонъ Россiйскаго острова.
У той рокъ капытанъ Немовъ мене до его
приставивъ тай казавъ дуже берегти его для Россiйской державы. А я Пластунскаго
баталiона Кубаньскаго козацкаго вiйска урядникъ Тпрунька.
— Неужели, старикъ, одинъ цѣлый годъ
прожилъ здѣсь, — спросилъ Нордековъ.
— Гэть одинъ. За Господомъ Богомъ проживъ.
— Чѣмъ же ты питался?…
— Концерты капытанъ бросавъ. У весну, якъ птиця
летiла охотою мало баловався. Тай рiбку у окiана потягувавъ. A то y нiчь запалю
охарокъ тай до свiта читаю Писання. Эвангиля та Псалтырь — дуже гарно.
— Никто за годъ на острову не былъ?…
— Никого и не бачивъ. Навiть порожнiй островъ
Россiйской державы.
— Ну теперь будутъ и обитатели. Видишь,
сколько народа валитъ.
— Слава Тобi Боже. Зачекався.
Нифонтъ Ивановичъ суетился подлѣ. Все
дожидался, когда можно будетъ задать волнующiй его вопросъ старику кубанцу. Наконецъ,
улучивъ моментъ, когда Ранцевъ, онъ таки побаивался его — настоящiй,
«сурьезный» начальникъ — заговорилъ о чемъ то съ Арановымъ и отошелъ отъ
Тпруньки, онъ обратился къ кубанцу:
— Гдѣ вода то, старикъ, питьевая?…
Хорошая, станица, вода?…
— Вода у горi’… Така’ тобi’ вода що лучшо’и и
не тре’ба. Нена’че твои Эссентуки. Якъ минеральна вода. Тай бога’цько же i’i.
Ц’iлу дывызiю напоить можно. Вода проте’чна. Бачишь, ручiй побi’гъ. Я его
Кубанкою прозвавъ.
— А гдѣ самъ то обитаешь, старикъ?
— У хорахъ моя хата. Я нена’че черкесъ…
Баштанъ посадiвъ съ тихъ сѣмянъ, що капытанъ мiнi давъ.
— И ладно растетъ? — обернувшись къ
Тпрунькѣ, спросилъ Ранцевъ.
— А вотъ подыви’ться.
Поднялись на первое плоскогорье. Оно было хорошо
укрыто скалами. На красной глинистой землѣ, поросшей рѣдкой травою,
въ углу у самыхъ скалъ стояла маленькая малороссiйская мазанка. Глиняная труба
была накрыта муравленымъ горшкомъ.
— Самъ и будова’въ, — не безъ гордости
показалъ Тпрунька.
За хатою былъ окруженный тыномъ огородъ.
Тпрунька повелъ Ранцева къ нему.
— Баштанъ тутешнiй погано вдаеться, ваше превосходительство,
— говорилъ Тпрунька, показывая гряды. — Дыни ще де якъ уроди’шся. А кавуны гэть
усi пропали. И не уразумiю вiдь чо’го. Сдаеться и земля для ихъ сама га’рна.
Оги’рки добре идуть. Такъ само и картошка.
Но Ранцевъ уже не слушалъ старика. Съ
плоскогорья почти весь островъ былъ какъ на ладони. Ранцевъ острымъ взглядомъ
осматривалъ его. Онъ повернулся къ Аранову и показалъ на широкую долину, полого
спускавшуюся къ океану и отдѣленную отъ него невысокою грядою холмовъ.
— Михаилъ Михайловичъ, какъ располагаете, годится
это мѣсто для вашихъ ангаровъ?
Арановъ разсѣяннымъ взглядомъ окинулъ
островъ. Онъ, какъ и всегда, отвѣтилъ не сразу.
— Да, конечно, — и, помолчавъ, точно что то вычисляя,
добавилъ, — я пойду отмѣчу мѣста ангаровъ и мастерскихъ. Медлить не
будемъ. Онъ сталъ спускаться съ плоскогорья. Ранцевъ слѣдилъ за нимъ,
потомъ повернулся къ Нордекову.
— Георгiй Димитрiевичъ, — сказалъ онъ, — вызывайте
своихъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, разбивайте лагерь на слѣдующей
террасѣ, за скалистымъ гребнемъ.
Онъ пошелъ показать Нордекову, какъ
хотѣлъ бы онъ, чтобы былъ разбитъ лагерь.
— Понимаете, я требую… Порядокъ, какъ въ Красномъ
Селѣ…
Онъ оглянулся назадъ. У бѣлой мазанки,
возлѣ тына, совсѣмъ старики станичники стояли. Агафошкйнъ въ
бѣлыхъ панталонахъ и въ длинномъ кителѣ, въ соломенной шляпѣ
и Тпрунька. Онъ снялъ винтовку и шашку и, нагнувшись къ землѣ, что то
показывалъ, разводя руками, набирая пальцами жирную землю и бросая ее.
Ранцевъ хотѣлъ было позвать Тпруньку,
чтобы онъ показывалъ дальше островъ, да ему жаль стало отрывать старика отъ интересной
бесѣды съ давно невиданнымъ станичникомъ, да и не къ чему было — островь
вотъ онъ — весь былъ какъ на ладони.
V.
Работа на острову кипѣла.
Въ яркомъ пеклѣ и нестерпимомъ
блескѣ точно застывшаго моря, презирая зной и отвѣсные лучи солнца,
сновали взадъ и впередъ понтоны. Полуголые люди съ пѣнiемъ и криками
тащили тяжелые ящики на берегъ. Стучали топоры.
Ранцевъ издали съ горы смотрѣлъ на работу.
Гласовскiй хоръ выгружалъ большой ящикъ съ грузовикомъ.
Работа не спорилась. Вдругъ произошло
движенiе.
Въ знойномъ воздухѣ народилась
пѣсня. Люди взялись за канаты.
Теноръ Кобылинъ въ однихъ трусикахъ, бѣлотѣлый,
блистая стеклами пенсне, завелъ старую бурлацкую.
— Англичанинъ,
мудрецъ,
Чтобъ работать
спорѣй
Изобрѣлъ за
машиной машину…
А нашъ Русскiй
мужикъ
Онъ работать
привыкъ,
Подъ родную дубину…
И дружно грянулъ хорошо спѣвшiйся хоръ:
— Эй, дубинушка,
ухнемъ.
Да, зеленая, сама
пойдетъ…
Дернемъ… Подернемъ…
Идетъ… Идетъ…
Идетъ…
Ящикъ ползъ на берегъ. Звонкiй раздался
восторженный голосъ: — Вотъ тебѣ, братцы, и Атлантическiй океанъ… Что
Волга матушка… А ну, робя, дальше:
— Отчего ты свая
стала,
Да подрядчикъ
пропилъ сало…
Эй, дубинушка
ухнемъ…
Ранцевъ издали наблюдалъ рабочихъ. Годы изгнанiя
слетѣли съ этихъ людей. Какъ птица, выпущенная на волю, они пѣли,
отдаваясь звукамъ своихъ пѣсень, какъ выпущенный на волю звѣрь,
томившiйся въ клѣткѣ, они радовались счастью, быть собою, наконецъ,
осознать себя Русскими, на Русской землѣ! Они остановились и, точно
отвѣчая мыслямъ Ранцева, взглянули на гордо рѣявшiй надъ горою
громадный Русскiй флагъ. Ихъ голоса были отчетливо слышны наверху.
— Гдѣ Русскiе, тамъ и Волга, —
восторженно крикнулъ въ юношескомъ задорѣ Кобылинъ.
— А кубанца видали, братцы?
— Робинзонъ, настоящiй Робинзонъ!
— Нѣтъ, братцы, почище будетъ Робинзона.
И какъ ладно все у него устроено. Я въ хатѣ былъ. Ну чисто Ледяной походъ
мнѣ напомнило. Славный дѣдъ. И не томился, цѣлый годъ одинъ
живучи.
— Не томился, потому что вѣрилъ.
— Вѣримъ и мы…
— А почтенный старикъ. Все скулилъ, вишь ты пчелъ
тутъ нѣтъ. Хуть бы, говоритъ, морскiя какiя ни на есть пчелы набрели, я и
ихъ бы замордовалъ.
Съ трескомъ отдирались доски, обнажая грузовикъ.
Мишель Строговъ наливалъ эссенцiю, сейчасъ и поѣдетъ. Негдѣ было
подняться.
— Вы по руслу попробуйте, Мишель, — кричали
ему. — Не топко.
— Лучше по доскамъ. Доски можно подложить.
— Куда же по доскамъ. Не выдержатъ никакъ доски.
Тонкiя вѣдь.
— Стойте, Мишель, мы вамъ подкопаемъ сейчасъ.
Лопаты достали.
Ранцевъ сталъ спускаться внизъ, чтобы дать указанiя,
что и куда возить.
Цѣлую недѣлю и все такимъ же
живымъ и бодрымъ темпомъ шла разгрузка парохода. Капитанъ Ольсоне поглядывалъ
на небо, справлялся съ барометромъ и поторапливалъ рабочихъ. Работали въ три
смѣны и днемъ и ночью. Съ парохода свѣтили прожекторами и въ ихъ
лучахъ непохожими на людей были рабочiе на пустынномъ острову.
Одновременно съ разгрузкой шла постройка ангаровъ
и мастерскихъ и установка палаточнаго лагеря.
«Какъ въ Красномъ Селѣ»… По шнуру отбили
переднюю линейку и копали дернъ, чтобы обложить ее. По шестамъ
провѣшивали линiю палатокъ, равняли въ затылокъ и метромъ отмѣривали
дистанцiи и интервалы. Ферфаксовъ сносилъ красивые обломки скалъ и
посерединѣ линейки устраивалъ подобiе кiота для образа Георгiя
Побѣдоносца, покровителя роты.
Профессоръ Вундерлихъ съ Лагерхольмомъ ходили по
острову, изучая его.
Вершина горы была розовая и возвышалась правильнымъ
куполомъ. Она походила на форму потаявшаго земляничнаго мороженаго. Отъ нея
кольцеобразно шелъ внизъ базальтовый кряжъ. Скалы имѣли различный
размѣръ и видъ. Однѣ валунами громоздились другъ на друга, точно розсыпь
картофеля исполина, другiя торчали острыми пиками съ рѣзко очерченными
гранями. Ихъ цвѣтъ былъ, то серебристо сѣрый, графитовый, то изсиня
черный, мрачный и жесткiй. Изъ подъ скалъ многими подземными ключами выбивалась
чистая, хрустальная вода. Она наполняла естественные, образовавшiеся между камнями
водоемы, падала оттуда водопадами, сливалась въ рѣчку и текла къ океану
по зеленому лугу плоскогорья.
Все было молодо, ярко и красочно, какъ должно
быть было на землѣ въ первые дни мiрозданiя. Трава была, какъ чистый изумрудъ,
камни точно шлифованные, края водоемовъ хранили острыя грани, необточенныя водою.
— Этому острову, — ковыряя палкой въ
землѣ, сказалъ профессоръ Вундерлихъ, — и десяти лѣтъ нѣтъ.
— Вы думаете, — сказалъ Лагерхольмъ.
— Когда я что говорю, — строго и вѣско
по нѣмецки сказалъ Вундерлихъ, — я не думаю, я знаю. Я ученый
человѣкъ. Этотъ островъ вулканическаго происхожденiя. Онъ выдвинулся уже
послѣ войны. Потому его никто и не нашелъ. Во время войны, избѣгая
нашихъ подводныхъ лодокъ, суда колесили по всему океану и они нашли бы его… Они
не нашли. Теперь никто ке найдетъ… Это уже ausgescholossen!… Очень это хорошее
мѣсто для нашей съ вами работы. Лучше, чѣмъ тамъ въ лѣсу…
Тутъ ничего бояться не надо.
Къ концу недѣли, по указанiю Ранцева,
были установлены пушки Гочкиса въ нарытыхъ батареяхъ. Часть ихъ была оставлена
на «Мстителѣ». На восьмой день, на разсвѣтѣ, «Мститель» и
береговая батарея обмѣнялись прощальными выстрѣлами, отсалютовали
флагомъ, и «Мститель» съ иностранной командой и капитаномъ Ольсоне,
прогудѣвъ на прощанье, взялъ курсъ на сѣверъ и скоро исчезъ въ
морской дали.
И было время. Съ полудня голубое небо заволоклось
сѣрою дымною завѣсою. Совсѣмъ неожиданно среди полной тишины
налетѣлъ вихрь, заигралъ флагомъ на мачтѣ, развернулъ его во всю
его трехсаженную длину и хлопнулъ имъ раза два. Потомъ все стихло.
Флагъ безжизненно повисъ вдоль мачты. И только
успѣлъ Тпрунька, знавшiй, что все это значитъ, добѣжать и спустилъ
флагъ, какъ заревѣла океанская буря.
Вѣтеръ, на тысячахъ миль не
имѣющiй препоны, вздымалъ громадныя волны. Точно хотѣлъ онъ до самаго
дна выдуть воду изъ океана. Темнозеленые валы, покрытые частымъ бѣлымъ
кружевомъ пѣны, съ кипящими гребнями шли на островъ.
Они налетали на берегъ, падали съ грохотомъ и
съ шипѣнiемъ разливались у зеленаго луга. Вѣтеръ вылъ съ неистовою
силою. Кусты никли подъ его порывами къ землѣ. Огромныя волны казались
выше горы. Островъ точно дрожалъ и трясся на нихъ. Казалось, сорветъ его съ его
жидкаго основанiя, смоетъ песчаную отмель и разнесетъ самую гору.
«Мститель» ушелъ во время. Никакiе якоря не
могли бы его удержать въ открытомъ океанѣ. Его разбило бы о скалы.
Эта буря продолжалась три дня и три ночи. И
такъ же внезапно, какъ налетѣла она, такъ и стихла. Океанъ
посинѣлъ. Волны съ мѣрною послѣдовательностью шли къ берегамъ
и разливались у нихъ, все дальше и дальше отступая и намывая свѣжiй песокъ
и гальку пляжа.
VI.
Въ «затишкѣ», гдѣ былъ установленъ
лагерь, буря ощущалась мало. Она неслась надъ горами, выла въ скалахъ, въ
лагерѣ же едва играла флачками палатокъ, да чуть отдувала ихъ парусину.
Занятiя и работы въ отрядѣ капитана Немо
не прекращались. Они производились по особымъ росписанiямъ, составлениымъ и
выработаннымъ Ранцевымъ вмѣстѣ съ Арановымъ, Вундерлихомъ,
Лагерхольмомъ, Нордековымъ и Субботинымъ.
Рота Нордекова была разбита Ранцевымъ на тридцать
отрядовъ, или, какъ ихъ по-французски назвали офицеры, — на тридцать «экиповъ».
Въ каждомъ отрядѣ былъ старшiй, его помощникъ и замѣститель, два
«газовика» и два пропагандиста… Кромѣ нихъ въ отрядъ входили летчикъ и
мехачикъ. Люди въ экипахъ были изъ одной мѣстности. Во главѣ
перваго отряда сталъ Ранцевъ, его помощникомъ — Ферфаксовъ. Этотъ и
слѣдующiе пять отрядовъ были составлены изъ сѣверянъ, уроженцевъ Сибири.
Два отряда были составлены изъ Петербуржцевъ, три изъ Москвичей, затѣмъ
были отряды для всѣхъ большихъ городовъ: Кiева, Одессы, Харькова, Нижняго
Новгорода, Курска, Ростова и т. д.
Во главѣ одного изъ Петербургскихъ
отрядовъ были поставлены полковники Нордековъ и Парчевскiй. Такъ какъ людей въ
отряды должны были подбирать по своему желанiю сами начальники, — Ранцевъ
только осматривалъ ихъ и утверждалъ выборъ, — Нордековъ взялъ въ свой «экипъ»
Мишеля Строгова. Очъ же сравнительно недавно былъ въ Петербургѣ и могъ
быть полезенъ своими знанiями совѣтской жизни.
Ранцевъ, осматривая и провѣряя составъ
отрядовъ, остановился противъ Мишеля и долго внимательно смотрѣлъ въ узко
поставленные глаза будущаго боксера, горящiе недобрымъ, волевымъ блескомъ.
Потомъ коснулся пальцами груди Мишеля и отпячивая его назадъ, сказалъ тономъ,
не допускающимъ возраженiй:
— Отставить… Георгiй Димитрiевичъ, вы замѣните
Александра Нордекова другимъ Петербуржцемъ. Нордековъ останется на острову.
Полковникъ ничего не возразилъ. Онъ понималъ:
— дисциплина… они были въ строю.
Вечеромъ онъ пошелъ объясняться съ Ранцевымъ.
— Петръ Сергѣевичъ, я къ вамъ, —
просовывая голову въ палатку Ранцева, сказалъ Нордековъ.
— Прошу.
Ранцевъ сидѣлъ на складномъ стулѣ
подлѣ небольшого стола. На столѣ были разложены карты крупнаго
масштаба, надъ ними въ свинтномъ походномъ подсвѣчникѣ горѣла
свѣча. Ранцевъ пересѣлъ на низкую койку, стоявшую въ глубинѣ
палатки и пододвинулъ стулъ полковнику.
— Что имѣете доложить?…
— Я, собственно, по поводу моего сына Шуры.
— Ну… Такъ въ чемъ же дѣло?…
— Я бы хотѣлъ взять его въ мой экипъ.
— Вы знаете, для чего эти отряды?
— Догадываюсь.
— Эти отряды на аэропланахъ полетятъ въ Россiю…
Они тамъ будутъ готовить возстанiе. Они жестокою местью подавляющимъ возстанiе
будутъ помогать возставшимъ. Они будутъ работать, окруженные самымъ утонченнымъ
сыскомъ, окруженные доносчиками и шпiонами. Вы понимаете, какая должна быть
спайка между всѣми членами отряда. Отрядъ долженъ быть, какъ тѣло
одного человѣка. Онъ долженъ имѣть одну душу, одну вѣру, одно
устремленiе.
— Я отлично все это усвоилъ… Шура мнѣ
сынъ.
— Вы ручаетесь за него? — строго спросилъ
Ранцевъ и прямо, неломающимся взглядомъ посмотрѣлъ въ глаза Нордекову.
Съ минуту такъ, молча, они смотрѣли въ
глаза другъ другу. И въ эту минуту вся жизнь на виллѣ «Les Coccinelles»
прошла передъ Нордековымъ. Мамочка съ ея «винтиками»… жена Ольга
Сергѣевна, Леночка — «совдепка», и наверху въ комнатѣ-гробу
странный, невѣдомый, «волевой», современный, новый человѣкъ, сынъ и
не сынъ Мишель Строговъ, никогда не назвавшiй его отцомъ, или папой, никогда не
назвавшiй мать мамой, не открывшiй никому своей души, рѣзко дерзившiй
бабушкѣ и всѣмъ имъ чужой и непонятный. Будущiй чемпiонъ бокса и
миллiонеръ — вотъ все, что зналъ про него полковникъ.
Нордековъ медленно всталъ со стула, опустилъ
глаза и тихо сказалъ:
— Извиняюсь, что побезпокоилъ.
Согнувшись онъ вышелъ изъ палатки и пошелъ къ
себѣ. Мишель его ожидалъ.
— На чемъ же порѣшили? — спросилъ,
непринужденно улыбаясь, Мишель.
— Ты останешься, Шура.
— Хны… Это еще что такое!… Да просто я не желаю
оставаться на этомъ проклятомъ острову… Мнѣ надо начинать мою карьеру. Я
не хочу.
— Такъ надо… Такъ будетъ лучше, — кротко сказалъ
полковникъ.
Мишель сжалъ кулаки и, сдвинувъ узкiя брови,
съ большимъ гнѣвомъ выкрикнулъ:
— Ну это мы еще посмотримъ. Я ему покажу…
сѣдому чорту.
Онъ вышелъ изъ палатки отца и, заложивъ руки
въ карманы, пошелъ «волевой» походкой по лагерю, освѣщенному
электрическими фонарями.
Какими то чудовищами, точно изваянiя
великановъ чернѣли, освѣщенныя отблесками фонарей, базальтовыя
скалы. Между ними, какъ огромные китайскiе бумажные фонари пузырями свѣтились
палатки. Въ нихъ слышно было бормотанiе и разговоръ. Во всѣхъ тридцати
«экипахъ» протверживали урокъ «гголит-грамоты», заданный утромъ полковникомъ
Субботинымъ.
VII.
Мишель Строговъ былъ серьезно уязвленъ и оскорбленъ
тѣмъ, что его отставили изъ отряда его отца. На острову оставалось немало
народа, не попавшаго въ «экипы». Но это были люди, оставленные для службы на
острову. Это были тѣ, кому просто не хватило мѣста. Мишель же былъ
избранъ и отставленъ. Онъ и сейчасъ ощущалъ оскорбительное прикосновенiе
пальцевъ Ранцева, когда тотъ осадилъ его изъ шеренги Нордековскаго «экипа».
Сначала онъ почувствовалъ себя хуже другихъ и это его поразило. Онъ такъ
привыкъ считать, что онъ лучше и умнѣе всѣхъ, что согласиться съ
тѣмъ, что онъ могъ быть признанъ для чего бы то ни было негоднымъ, онъ не
могъ. И привычная гордость скоро подсказала ему, что онъ отставленъ изъ личныхъ
счетовъ, что съ нимъ сдѣлана величайшая несправедливость, и онъ
возненавидѣлъ Ранцева со всею силою своей невѣрующей души. Онъ все
это время мало интересовался тѣмъ, что дѣлалось въ отрядѣ,
машинально исполняя тѣ работы, куда его привлекали вмѣстѣ съ
другими. Теперь онъ сталъ присматриваться, прислушиваться и отгадывать, какая
была конечная цѣль всѣхъ сложныхъ работъ, шедшихъ на острову.
Догадываться было нетрудно, да теперь этого никто и не скрывалъ. Это была
подготовка къ жестокой борьбѣ съ большевиками, къ освобожденiю отъ ихъ
ига Россiи.
Мишель Строговъ былъ равнодушенъ къ Россiи.
Онъ пошелъ въ отрядъ не для работы, но для раскрытiя тайны, для продажи этой
тайны кому то и полученiя тѣхъ крупныхъ денегъ, которыя ему были нужны для
его настоящей карьеры современнаго человѣка — карьеры боксера.
Тайна была наполовину раскрыта, но для реализацiи
ея нужно было покинуть этотъ островъ. Только въ Европѣ, или въ Америкѣ
онъ могъ разсчитывать хорошо продать узнанную имъ тайну. Его отставили отъ полета
съ острова и этимъ преградили ему возможность реализовать добытыя имъ
свѣдѣнiя, Мишель Строговъ ни съ кѣмъ не дружилъ. Онъ держался
ближе къ своимъ сверстникамъ, каковыми были Фирсъ Агафошкинъ, князь
Ардаганскiй, теноръ Кобылинъ и еще нѣсколько молодыхъ людей. Онъ пытался
посвятить ихъ въ свои планы, открыть имъ свои идеалы, но даже Фирсъ его не
понялъ. Всѣ горѣли одною идеей, всѣ были увлечены одною
мечтою — спасенiемъ Родины. У всѣхъ на языкѣ были сказанныя,
кажется, Муссолини слова: «все для Родины, все черезъ Родину, все на
Родинѣ». Это слово, чуждое пониманiю Строгова, бывшаго въ полномъ
смыслѣ этого слова человѣкомъ безъ отечества, дико звучало для
Мишеля… Но кругомъ только объ этомъ и говорили. Фирсъ изучалъ евангелiе и на на
насмѣшку Мишеля Строгова сказалъ съ тихимъ укоромъ:
— Я изъ послушанiя дѣдушкѣ никакъ
не выйду, а вамъ стыдно — вы образованный.
Ближе всѣхъ былъ князь Ардаганскiй.
Именно потому онъ сталъ ближе всѣхъ, что онъ былъ, какъ самый ярый
противобольшевикъ, дальше всѣхъ отъ Мишеля. Но князь былъ очень добрый,
очень вѣрующiй человѣкъ и онъ считалъ своимъ долгомъ обуздать и
укротить Мишеля, успокоить его и помочь ему. Мишель не открывался ему
вполнѣ, но князь догадывался, какая буря бушевала въ душѣ Мишеля.
Мишель пытался съ разными людьми и молодыми и
старыми говорить о томъ, что его волновало: — о боксѣ, о чемпiонатахъ
разнаго рода, о миллiонахъ, которые теперь можно такъ легко «сдѣлать».
Его не понимали.
— На что мнѣ миллiоны, когда у меня не
будетъ Родины, — сказалъ Мишелю Кобылинъ.
— Самое сладкое въ жизни — это умереть за Родину,
— сказалъ князь Ардаганскiй. — Я училъ это въ школѣ, но тогда я этого не
понималъ. Здѣсь я это понялъ.
— Я бы хотѣлъ быть такимъ, какъ Ранцевъ,
— сказалъ корнетистъ Ковалевъ. — Бѣднымъ, но честньшъ. Рыцаремъ…
Офицеромъ…
Спорить было безполезно. Эти люди никогда не поняли
бы его. Надо было молчать. Кругомъ шла дѣятельная жизнь и хотѣлъ
или не хотѣлъ Мишель, она втягивала его въ себя и заставляла работать,
молча, стиснувъ зубы, затаивъ въ себѣ месть Ранцеву и всѣмъ этимъ
Донъ-Кихотамъ, какъ называлъ Мишель всѣхъ офицеровъ острова.
Съ необыкновеннымъ, суровымъ педантизмомъ Ранцевъ
наблюдалъ, чтобы всѣ люди были на занятiяхъ, а занятiя шли согласно съ
составленнымъ имъ росписанiемъ. Для большинства, прошедшаго Галлиполiйскую
Кутеповскую школу, этотъ педантизмъ не былъ ни страшенъ, ни новъ. Отъ него,
правда, отвыкли. Онъ
показался по началу
тяжелымъ, но незамѣтно впряглись въ работу, и время полетѣло съ
невѣроятною быстротою. Некогда было задумываться и критиковать, да и критиковать
было нелегко: — все было разумно поставлено.
Въ четыре часа утра трубилъ горнистъ или билъ
барабанщикъ «побудку» и въ темнотѣ тропической ночи, разсѣянной
горящими на лагерной линейкѣ четырьмя высокими фонарями, подъ темносинимъ
пологомъ кеба, усѣяннымъ незнакомыми, большими и яркими звѣздами
экватора, люди умывались, строились на общую молитву противъ прекраснаго
отряднаго образа, потомъ шли въ столовую, гдѣ получали чай и утреннiй
завтракъ.
Въ пять часовъ утра всѣ были на
работахъ. Одни шли въ ангары, другiе въ мастерскiя, остающiеся люди
Нордековской роты строились на ученье. Еще въ темнотѣ занимались гимнастикой.
Въ шесть часовъ съ восходомъ солнца шли на ротное ученье. Это было чаще всего
рѣшенiе тактической задачи на мѣстности, причемъ иногда изъ роты
дѣлади обозначенный батальонъ или цѣлый полкъ и проходили съ нимъ
всѣ стадiи наступленiя или обороны. А то шли упражняться въ
стрѣльбѣ изъ винтовокъ и пулеметовъ, въ метанiи простыхъ и газовыхъ
ручныхъ гранатъ. Ученье кончалось и расходились: одни къ профессору Вундерлиху
обучаться установкѣ и управленiю его газовыми аппаратами, другiе съ
полковниками Субботинымъ и Ястребовымъ изучали совѣтскiй бытъ, затверживали
свои совѣтскiя имена и свое прошлое, согласно съ новыми паспортами. Въ одиннадцать
часовъ былъ обѣдъ—на славу кормилъ Нифонтъ Ивановичъ — послѣ
обѣда до трехъ часовъ отдыхали, предаваясь полуденной съестѣ
жаркихъ странъ. Въ три часа подъ навѣсомъ, на легкомъ сквознякѣ у
громкоговорителя слушали чтенiе по радiо Парижскихъ газетъ. Это была связь съ
оставленнымъ мiромъ.
На одномъ изъ первыхъ чтенiй узнали о гибели
не далеко отъ большихъ Антильскихъ острововъ парохода «Немезида», перевозившаго
на острова Галапагосъ, кинематографическую труппу общества «Атлантида». Вся
Русская колонiя была взволнована этимъ несчастiемъ. Во всѣхъ церквахъ
Парижа, Медона, Лiона, Бѣлграда, Софiи и въ другихъ мѣстахъ
Русскаго разсѣянiя служили панихиды по погибшимъ. Служили панихиду и въ
томъ мѣстчекѣ, гдѣ была вилла «Les Coccinelles». И жутко было
слушать о себѣ, живыхъ, какъ объ умершихъ. Но самое страшное было, что
газеты занялись этимъ одинъ, два дня, а потомъ и забыли, какъ будто бы никого
изъ погибшихъ и не было на свѣтѣ. Но вспомнили, что такъ же скоро
примирились съ гибелью Кутепова, и въ этомъ нашли грустное, философическое
успокоенiе. И думали лишь о томъ, помнили ли о нихъ по крайней мѣрѣ
ихъ жены, матери и дѣти?…
Мишель Строговъ подмѣтилъ
впечатлѣнiе, произведенное на слушателей этимъ извѣстiемъ и
запомнилъ его.
Bo время слушанiя громкоговорителя пили чай и
прохладительные напитки, послѣ разбивались по отрядамъ и шелъ
практическiй урокъ совѣтскаго быта.
Полковникъ Субботинъ ходилъ взадъ и впередъ по
палаткѣ, гдѣ на скамьяхъ сидѣли люди «экиповъ».
— Прежде всего запомните, что несмотря на всю
ту чепуху, которой старались большевики повернуть мозги на бекрень Русскому
народу, имъ это никакъ не удалось. Вы прiѣдете все таки въ Россiю. Въ
Россiю, бѣдную, озлобленную, грязную, голодную, но Россiю, и найдете въ
ней не коммунистовъ, но Русскихъ. He бойтесь мелкихъ ошибокъ въ совѣтской
терминологiи, ея и сами совѣтскiе граждане далеко не всѣ знаютъ.
Конечно, лучше навсегда усвоить то, что усвоили и къ чему привыкли въ
совѣтской республикѣ. Тамъ нѣтъ второго и третьяго классовъ,
но есть твердые и мягкiе вагоны…
— Какое фарисейство, — сказалъ Парчевскiй.
— Да… вѣрно… фарисейство… Но вся
совѣтская республика есть величайшая, неслыханная доселѣ ложь, обманъ,
партiйное ханжество и насилiе… Въ совѣтской республикѣ многаго
нѣтъ того, къ чему вы такъ привыкли заграницей. Тамъ послѣ бритья
нельзя освѣжить кожу камнемъ, тамъ не носятъ воротничковъ… Рѣдко
кто носитъ, особенно лѣтомъ, шляпы. Но не смущайтесь, если вы ошибетесь.
Помните, милицiя уже не та, и чекисты много сбавили форса. На замѣчанiе
спокойно и дерзко даже кричите, что при «царизмѣ» все было. Толпа на
вашей сторонѣ. Васъ тронуть не посмѣютъ. Чѣмъ
смѣлѣе, скажу болѣе, чѣмъ наглѣе вы будете въ
случаѣ какого бы то ни было недоразумѣнiя, тѣмъ больше
шансовъ, что васъ никто не посмѣетъ тронуть. Да вы вѣдь и пойдете
не безоружными. Въ случаѣ, если вамъ придется столкнуться съ партiйцемъ,
чѣмъ большую чушь и наборъ словъ вы, будете городить, тѣмъ больше шансовъ
у васъ будетъ на успѣхъ. Ну-те-съ… Что такое уклонъ?… Что значитъ быть
правымъ уклонистомъ?… Что такое Загсъ?… Господа, читайте, изучайте Зощенку. Не
думайте, что это каррикатура, кривое зеркало, это подлинное отраженiе или, какъ
теперь стали говорить: «отображенiе» совѣтскаго быта во всей его
неприкрашенной уродливости. Евстратовъ, разскажите намъ, какъ бы вы стали
говорить съ партiйцемъ… ну хотя бы… вотъ модная тема: — о партiйной
чисткѣ.
Евстратовъ всталъ со скамьи, придалъ своему
курносому лицу тупое, упорное выраженiе и сталъ говорить, какъ твердо заученный
урокъ:
— Въ ЦИК продолжаютъ поступать съ мѣстъ
многочисленные запросы по чисткѣ и провѣркѣ партiи. Товарищи,
къ этому надо относиться съ должнымъ вниманiемъ и партiйною серьезностью.
Провѣркомы и парторганизацiи запрашиваютъ напримѣръ: подлежатъ ли провѣркѣ
кандидаты, какъ поступать, когда возникнетъ сомнѣнiе въ установленiи
партстажа, гдѣ провѣрить только что прибывшихъ въ ячейку изъ
другихъ организацiй, гдѣ и когда наклеивать марки на партдокументъ
провѣреннаго, нужно ли голосовать на собранiяхъ и т. д. Товарищи, все это
праздные вопросы. Все это предусмотрѣно и разъяснено въ инструкцiяхъ и
письмахъ ЦКК ВКП. Статодѣломъ ЦК ВКП разосланы на мѣста бланки статистической
отчетности о чисткѣ и провѣркѣ партiи и инструкцiя по
составленiю отчетности и подведенiю итоговъ чистки. Всего формъ отчетности
четыре. Форма № 1 — списокъ членовъ ячейки. Онъ составляется въ каждой
ячейкѣ въ двухъ экземплярахъ за два, три дня до чистки. Провѣркомы
отмѣчаютъ въ этомъ спискѣ результаты провѣрки каждаго
партiйца или причины неявки. Форма № 2 — итоги провѣрки…
— Очень хорошо-съ… Довольно, господинъ Евстратовъ.
Прошу васъ садиться. Изъ этого краткаго доклада, господа, не думайте, что
доклада придуманнаго, чтобы посмѣяться надъ узкимъ бюрократизмомъ и канцеляризмомъ
коммунистической партiи, нѣтъ, доклада подлиннаго, вы можете
убѣдиться, до какихъ Гсркулесовыхъ столбовъ, до какого абсурднаго узкаго
канцеляризма и бюрократизма дошли большевики. И этихъ всѣхъ правилъ,
отчетностей, инструкцiй, формъ, которыми засыпаютъ совѣтскихъ служащихъ,
естественно никто не можетъ какъ слѣдуетъ усвоить и запомнить. Отсюда —
смѣлость и наглость при спорахъ и вы всегда будете правы. Знать всѣ
декреты, инструкцiи, формы и правила большевиковъ труднѣе, чѣмъ
изучить китайскую грамоту. Ихъ не знаютъ и сами такъ называемые «стопроцентные»
коммунисты. Вы спросите меня, откуда вся эта канцелярская галиматья въ
коммунистической партiи? Надо знать, кто такiе большевики? Соцiалисты и ихъ производная
— большевики — это дѣтище той части народа, которая оторвалась отъ него, получила
нѣкоторыя знанiя, не знаетъ народа, не желаетъ знать его чаянiй и
вожделѣнiй, создала въ своей головѣ нарочно придуманныя правила и
съ тупостью народныхъ учителей старается во что бы то ни стало привить свои
правила народу. Соцiалисты — это дѣтище такъ называемой «интеллигенцiи».
Ея самые яркiе представители, это туполобыя, фанатическiя курсистки, которыхъ
знанiя опьянили и онѣ возомнили себя въ нѣкоторомъ родѣ
богами. Что могла эта «интеллигенцiя» придумать для народа, кромѣ
воинствующаго безбожiя, самаго грубаго и пошлаго матерiализма и всѣхъ
этихъ рапортичекъ, инструкцiй, формъ, доносовъ и экзаменовъ «како
вѣруеши»?… Соцiалисты вышли изъ среды, гдѣ спрашиваютъ уроки «отъ
эстого до эстого», гдѣ ставятъ баллы, сажаютъ въ карцеръ, дѣлаютъ
экзамены и выгоняютъ вонъ изъ школы. Это единственное свое знанiе они и
примѣнили къ жизни великаго народа. Они экзаменуютъ его, ставятъ ему
баллы, сажаютъ въ карцера Гороховыхъ и Лубянокъ и выгоняютъ вонъ изъ жизни.
Большевизмъ — это прежде всего мѣщанство, доведенное до абсурда…
Большевизмъ — это невѣроятная пошлость, это оскотиненiе человѣка. И
потому не бойтесь. Смотрите на все просто. Тамъ, куда вы прилетите, гдѣ
сразу вы очутитесь въ толпѣ народа, вы не найдете ничего страшнаго. Вы
увидите тамъ дѣвицъ, мечтающихъ объ «ирискахъ» Моссельпрома, о
билетѣ
въ кинематографъ, о
прюнелевыхъ ботинкахъ и о шерстяныхъ теплыхъ чулкахъ. Тамъ вы найдете молодыхъ людей,
зубрящихъ партiйные уроки и боящихся получить дурной баллъ. Вы вездѣ
будете выше ихъ и только — не бойтесь…
Субботинъ поклонился слушателямъ. Его урокъ
кончался. Ранцевъ, присутствовавшiй на занятiяхъ, знакомъ показалъ, чтобы не
расходились и сказалъ:
— Особенно эти мѣщанство и пошлость
сказались въ красной армiи. Совѣтское Правительство употребляетъ
всѣ усилiя, чтобы создать боеспособную армiю. Оно тратитъ на нее большiя
деньги, оно ее старается кормить и одѣвать и, тѣмъ не менѣе,
къ тринадцатому году существованiя красной армiи она представляетъ изъ себя и
по внѣшнему виду и по внутреннему своему содержанiю то, чѣмъ была
наша армiя во времена Временнаго Правительства. Красная армiя можетъ дать Калущъ,
но за нимъ неизбѣжно послѣдуетъ — Тарнополь… Красные командиры не
гордятся, но тяготятся службой. Нашъ офицеръ сживался съ полкомъ цѣлымъ
рядомъ предковъ, служившихъ въ этомъ полку. Онъ любилъ свой полкъ, гордился
имъ. Онъ любилъ и дорожилъ полковымъ мундиромъ, берегъ и цѣнилъ носимое
имъ оружiе… Ничего этого нѣтъ въ средѣ краснаго команднаго состава.
Это не офицеры, это чиновники, ненавидящiе службу, отбывающiе въ ней номеръ.
Красная армiя съ полками безъ традицiй прошлаго, со скучнымъ и позорнымъ
настоящимъ и безъ всякаго будущаго — мертвый организмъ. Въ ней каждый понимаетъ,
что коммунизмъ умретъ и съ нимъ умретъ и его красная армiя. Вамъ, господа,
придется на ея мѣстѣ создавать новую Россiйскую Имперскую Армiю на
началахъ вѣры въ Бога, вѣрности присягѣ будущему Государю и
доблестнаго, рыцарскаго служенiя Родинѣ. Готовьтесь къ этому.
— Насъ для этого слишкомъ мало, — съ
мѣста сказалъ Парчевскiй.
— За вами вся Россiя… Въ нужную минуту къ вамъ
явится на помощь Русскiй Обще-Воинскiй Союзъ и пополнитъ ваши ряды знающими,
доблестными и опытными офицерами. Онъ явится къ вамъ готовыми полковыми
ячейками, сквозь труды и лишенiя эмигрантской жизни пронесшими непоколебимую
вѣрность знаменнымъ лозунгамъ и горячую жертвенную любрвь къ родному
полку.
Глубокою, страстною вѣрою дышали слова
Ранцева. Они вливали бодрость въ сердца офицеровъ. Послѣ его словъ легче
дышалось. Забылись тяжелые труды въ непривычномъ климатѣ, забылась тоска
по покинутымъ семьямъ. Готовились къ подвигу и вѣрили, что подвигъ этотъ
будетъ ненапрасенъ.
Занятiя шли по своему росписанiю и, независимо
отъ него, дни и ночи непрерывно въ аэропланныхъ ангарахъ стучали по металлу
молотки, клещи стягивали гайками винты. Подъ руководствомъ инженеровъ шла
сборка аэропланныхъ частей.
И не прошло и мѣсяца такой
напряженнѣйшей работы, какъ то одинъ, то другой серебряный лебедь, красавецъ
аэропланъ, выбѣгалъ изъ ангара, становился на отмѣченную точку и
вдругъ безъ шума и безъ разбѣга, точно подхваченный какою то невидимою
силою взмывалъ кверху и исчезалъ въ голубой выси.
Возвращавшiеся съ пробныхъ полетовъ авiаторы
были въ восторгѣ отъ аппаратовъ Аранова. Самъ Арановъ всегда стоялъ и
ожидалъ замѣчанiй о полетѣ. Взволнованный, возбужденный
совершеннымъ полетомъ летчикъ шелъ къ нему съ докладомъ.
— Какая удивительная машина, Михаилъ Михайловичъ,
— уже издали говорилъ летчикъ. — Я совершенно забывалъ, что я лечу на
аэропланѣ. Просто парилъ орломъ въ воздухѣ. Останавливался,
прибавлялъ и убавлялъ скорость. Какъ нѣкiй духъ неслышно носился надъ океаномъ.
Мой аппаратъ высоты показывалъ шесть тысячъ метровъ, а я и не замѣчалъ
этого въ своей кабинѣ. Вы думаете, я могу завтра подняться выше?…
Арановъ стальными глазами вглядывался въ глаза
летчика и какъ всегда долго не отвѣчалъ.
— Да, конечно, — наконецъ, говорилъ онъ и шелъ
навстрѣчу слѣдующему летчику, безшумно спускавшемуся на указанное
ему мѣсто.
Мишель Строговъ наблюдалъ все это. Онъ обладалъ
теперь въ полной мѣрѣ тайной и онъ понималъ, какихъ денегъ стоила
эта тайна. Дѣйствительно — миллiонъ!… Но использовать ее, пока онъ
находится на этомъ проклятомъ острову онъ никакъ не могъ. Все сильнѣе и
ярче накипала въ немъ злоба противъ Ранцева, отставившаго его отъ полета и
жажда мести во что бы то ни стало стала главною его мыслью. Изъ далекихъ
воспоминанiй дѣтства выплыли времена, проведенныя имъ въ комсомолѣ
и уроки тамъ полученные. Разлагать и уничтожать всякое дѣло, всякое
начинанiе… Сѣять смуту среди участниковъ… Подрывать довѣрiе къ
начальникамъ — вотъ та работа, какая указывалась въ такихъ дѣлахъ. Мишель
Строговъ искалъ случая, чтобы взорвать работу Ранцева и уничтожить
довѣрiе къ нему офицеровъ и солдатъ отряда капитано Немо. Изъ своего
коммунистическаго прошлаго онъ усвоилъ, что въ такихъ случаяхъ надо найти
слабое мѣсто у противника и no нему и ударить какъ и чѣмъ угодно,
хотя бы ложью и клеветой. И Мишель Строговъ нашелъ такое мѣсто.
VIII.
Въ собранской столовой кончили ужинать. Почти
всѣ офицеры разошлись по палаткамъ. Свѣчи были погашены. Только на
одномъ концѣ длиннаго стола, гдѣ горѣлъ лампiонъ, осталась
небольшая группа. Тамъ смотрѣли, какъ неизвѣстно откуда
прилетѣвшая большая ярко голубая блестящая бабочка билась крыльями о
стекло лампiона. Въ противоположномъ углу въ темнотѣ, Фирсъ Агафошкинъ у
самовара перетиралъ стаканы. Никто изъ сидѣвшихъ у стола не
замѣтилъ, какъ въ этотъ темный уголъ прошелъ изъ лагеря Ранцевъ. Онъ не
хотѣлъ тревожить офицеровъ и, сдѣлавъ Фирсу знакъ, чтобы онъ не докладывалъ
о его приходѣ, спросилъ себѣ стаканъ чая и сѣлъ въ углу,
издали наблюдая за бабочкой.
— Первый вѣстникъ на Россiйскiй островъ,
— сказалъ Парчевскiй, стоя слѣдившiй за порханiемъ бабочки.
— Господинъ полковникъ, мы должны спасти ее и
не дать обжечь ея прекрасныя крылышки, — сказалъ князь Ардаганскiй.
— Какъ вы думаете, какъ и откуда она могла попасть
къ намъ? — сказалъ Кобылинъ. Его голосъ былъ нѣженъ. Казалось, что это
сказала груднымъ низкимъ голосомъ женщина.
— Вѣтромъ могло принести куколку. И вотъ
это первое существо, родившееся на острову, — сказалъ Парчевскiй.
— Я, господа, видалъ мышей, — сказалъ
Ферфаксовъ.
— Ну эти попали съ ящиками съ мукой со «Мстителя».
Онѣ того же порядка, что и мы. Но бабочка… Откуда она?…
— Какъ интересно наблюдать зарожденiе флоры и
фауны на острову, гдѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ ничего не
было.
— Такъ когда то было и на всей нашей
землѣ.
— Да, если вѣрить матерiалистамъ и
считать теорiю Дарвина за непреложную истину.
— Но она давно уже опровергнута. Ей
вѣрятъ только такiя тупицы, о которыхъ, помните, намъ разсказывалъ
полковникъ Субботинъ.
Ферфаксовъ, наконецъ, поймалъ бабочку и бережно
передалъ ее Ардаганскому.
— Отнесите ее осторожненько, Михако, подальше
и положите въ траву, да крылышки ей не помните.
— Однако, господа, откуда нибудь все это берется?
Какая то теорiя зарожденiя видовъ должна быть, — сказалъ Кобылинъ.
Ферфаксовъ быстро обернулся къ говорившему. Милое
смущенiе загорѣлось на его смугломъ, не старѣющемъ лицѣ.
— Какъ какая то теорiя, — сказалъ онъ срывающимся
отъ волненiя голосомъ. — Не теорiя, но точное знанiе. Жизнь всему живущему
послалъ Тотъ, о Комъ поетъ псалмопѣвецъ Давидъ: — «Господь творитъ все,
что хочетъ, на небесахъ и на землѣ, на моряхъ и во всѣхъ безднахъ.
Возводитъ облака отъ края земли, творитъ молнiи при дождѣ, изводитъ
вѣтеръ изъ хранилищъ Своихъ…».
— Вѣтеръ изъ хранилищъ, — съ глубокою
иронiей сказалъ Мишель Строговъ. — Какой же авторитетъ Давидъ… Да и былъ ли онъ
когда?…
Ферфаксовъ смутился. Этотъ самоувѣренный
молодой человѣкъ не нравился Ферфаксову, но оборвать его онъ при своей
тонкой деликатностй не могъ. Какъ оборвать?… Онъ былъ сыномъ полковника
Нордекова, съ кѣмъ онъ вмѣстѣ пережилъ такiя страшныя и
незабываемыя минуты на берегу Сены. Ферфаксовъ зналъ всю исторiю Мишеля. Онъ
жалѣлъ его. Сколько разъ онъ хотѣлъ подойти къ его ожесточенному
сердцу съ тихими словами любви и участiя и понималъ, что разобьются его слова о
насмѣшливую самоувѣренность и холодную самовлюбленность Мишеля.
Парчевскiй замѣтилъ смущенiе Ферфаксова
и поспѣшилъ ему на помощь.
— Бросимъ всѣ эти такъ давно всѣмъ
надоѣвшiе споры о мiрозданiи. Какъ мудро придумалъ капитанъ Немо,
устроивъ нашу базу на этомъ никому невѣдомомъ острову.
— He нахожу, — быстро и зло сказалъ Мишель.
Всѣ примолкли. Съ нѣкоторою
растерянностью смотрѣли на самаго молодого изъ нихъ, такъ смѣло
оспаривавшаго ихъ.
— Прежде всего, — осмѣлѣвъ отъ
молчанiя, продолжалъ Мишель, — селить на островѣ одного этого старика
Кубанца было совсѣмъ не осторожно… Онъ могъ за этотъ годъ сто разъ въ
ящикъ сыграть и тогда бы кто сталъ Россiйскiй флагъ поднимать. Это разъ… —
Мишель гордо оглянулъ всѣхъ. Онъ казался самому себѣ удивительно
умнымъ и проницательнымъ. — Другое — и самый то этотъ островъ — ерунда съ
масломъ. Вундерлихъ говорилъ, что онъ выдвинулся изъ океана вслѣдствiе
землетрясенiя лѣтъ восемь, десять тому назадъ. Ну развѣ не
легкомысленно селиться на такомъ острову? Онъ можетъ такъ же свободно, какъ
вынырнулъ изъ воды и нырнуть подъ воду, и со всѣми нами… Какая же эта
база?…
— Но этотъ островъ, — внушительно и строго сказалъ
капитанъ Волошинъ, — лежитъ на 2° 10’ 11" южной широты и на 22° 32’
18" западной долготы отъ Гринвича. Онъ находится внѣ какихъ бы то ни
было судовыхъ рейсовъ. Наше пребыванiе на немъ невозможно открыть. А это въ
нашемъ дѣлѣ самое важное… A то, что онъ можетъ или не можетъ
обратно опуститься — это дѣло десятое. Вулканъ давно потухъ.
Землетрясенiя не можетъ произойти. Вы этого, молодой человѣкъ, не
учитываете.
«Сорвалось», — подумалъ Мишель Строговъ. «Молодой
человѣкъ» извело и оскорбило его. Онъ со злобою посмотрѣлъ на Волошина.
Онъ зналъ, что у Волошина была красивая жена и что онъ больше другихъ офицеровъ
тосковалъ по семьѣ и волновался, что она не знаетъ, что они не погибли.
Это и вообще было самое больное мѣсто въ экспедицiи. Тутъ были Парчевскiй,
Ферфаксовъ, все женатые, Кобылинъ, — у него осталась невѣста —
француженка, князь Ардаганскiй, признавшiйся какъ то Мишелю, что онъ безъ ума
влюбленъ въ нѣкую очень молодую особу. «По больному то и бить», —
вспомнилъ онъ и, засунувъ руки въ карманы, съ небрежно независимымъ видомъ
бросилъ:
— Да и вообще…
— Нѣтъ, Мишель, — строго сказалъ
Парчевскiй, — если что начали, то и договаривайте.
— Вообще… Нѣтъ честности… Насъ
обманываютъ…
— То есть? — еще строже сказалъ Парчевскiй.
— А вотъ обѣщали женъ и матерей
увѣдомить… Вообще родныхъ, что «Немезида» не погибла, а между тѣмъ…
Вотъ уже мѣсяцъ…
Тяжелое молчанiе стало въ палаткѣ.
Ранцевъ отставилъ свой стаканъ и подошелъ къ офицерамъ.
Всѣ поднялись.
— Господа, — тихимъ отъ сердца идущимъ голосомъ
сказалъ Ранцевъ, — Александръ Нордековъ смутилъ васъ. Да, это вѣрно,
капитанъ Немо не нашелъ пока возможнымъ громогласно черезъ радiо сообщить о
томъ, что пассажиры «Немезиды» не погибли. Вы сами понимаете, что этого нельзя
было сдѣлать. «Немезида» должна была исчезнуть изъ поля зрѣнiя
праздныхъ и любопытныхъ наблюдателей. Иначе, корреспонденты большихъ газетъ, какiе
нибудь снобирующiе миллiонеры американцы, наконецъ, просто конкурирующiе
фильмовики хлынули бы вслѣдъ за ней на острова Галапагосъ… Не найдя тамъ
никакихъ слѣдовъ фильмовой съемки, они подняли бы тревогу, стали бы
искать… При теперешнихъ то средствахъ воздушной развѣдки, имъ такъ просто
было бы наткнуться на нашъ островъ, и вся наша работа рухнула бы раньше
времени. Она была бы сорвана. Теперь насъ нѣтъ. Вы сами видите, какъ въ
нашъ вѣкъ скоро забываютъ умершихъ… Мы можемъ спокойно работать и
завершить наше дѣло. Сказать сейчасъ ничего нельзя. Вашимъ семьямъ
придется потерпѣть. Итакъ уже Совѣты очень заинтересованы, откуда
сѣетъ пропаганду радiо. Мы должны до поры до времени притаиться, какъ бы
не быть вовсе… Но я могу васъ увѣрить, что ваша забота тяготитъ и
капитана Немо и онъ, при первой же возможности, дастъ неопровержимыя
доказательства вашимъ семьямъ, что вы не погибли…
Ранцевъ повернулся къ Мишелю и сказалъ, возвышая
голосъ, тономъ не допускающимъ возраженiя:
— Васъ, Александръ Георгiевичъ, я
предупреждаю, что, если вы будете невоздержны на языкъ и еще разъ позволите
себѣ выступать съ необоснованною критикой и обвиненiями, которымъ
нѣтъ мѣста, я буду принужденъ арестовать васъ. Я могу принять и
другiя мѣры… Господа, часъ позднiй. Завтра съ утра большiя работы. Прошу
васъ разойтись по палаткамъ.
Ранцевъ сдѣлалъ общiй поклонъ и вышелъ
въ полной тишинѣ изъ палатки.
IX.
Выйдя изъ собранiя, Ранцевъ пошелъ на гору,
гдѣ на послѣдней террасѣ, подъ самой вершиной, укрытый со
всѣхъ сторонъ скалами стоялъ баракъ капитана Немо. Часовые окликнули его:
— «что пропускъ»? Ранцевъ отвѣтилъ. Часовые узнали его. Имъ былъ разъ навсегда
отданъ приказъ пропускать его къ Немо во всякое время дня и ночи. Ранцевъ
постучалъ у двери барака.
— Да… да… Ты, Петръ Сергѣевичъ?… Входи…
Очень кстати.
Капитанъ Немо сидѣлъ въ углу барака у
небольшого стола, гдѣ былъ радiо аппаратъ. Онъ держалъ у своихъ ушей
эбонитовые кружки. Онъ подалъ одинъ Ранцеву и жестомъ показалъ, чтобы Ранцевъ
сѣлъ рядомъ съ нимъ. Свободной рукой Немо на блокъ-нотѣ написалъ
карандашомъ: — «говоритъ Дрiянскiй, съ бывшаго «Мстителя» изъ Вардо… по
спецiальной волнѣ… уловить ее никто не можетъ».
Въ аппаратѣ потрескивало и черезъ эти
потрескиванiя слышенъ былъ знакомый голосъ Дрiянскаго.
— Сто тысячъ винтовокъ и десять тысячъ станковыхъ
пулеметовъ, десять миллiоновъ патроновъ къ нимъ погружены. Все прошло
благополучно. Комплектовъ зимней одежды могли взять только пять тысячъ,
мануфактуры тысячу тоннъ. Съ зимней одеждой имѣю надежду управиться на
мѣстѣ. Такъ мнѣ и Кортиненъ писалъ. Во всякомъ случаѣ
обѣщаютъ подачу слѣдующимъ рейсомъ еще двадцать тысячъ комплектовъ
и двѣ тысячи сѣделъ. Дѣло поставки налажено… Теперь самое
главное… Ледокола въ Шверiи мы не нашли… Но въ Вардо стоялъ совѣтскiй
ледоколъ «Ильичъ». Перегоривъ съ Ольсоне рѣшилъ овладѣть имъ.
Лейтенантъ Нюстромъ съ двумя молодцами подошелъ къ «Ильичу» на шлюпкѣ.
Были приняты. Употребили данное Вундерлихомъ дихлоръ-ди-этилъ-сульфидовое
соединенiе. Дѣйствительно — король газовъ!… Весь экипажъ сдохъ моментально.
Наши остались невредимыми только потому, что знали, гдѣ,незараженное
мѣсто… Всю ночь чистили судно и сбрасывали трупы въ море. Поставили свою
команду. Что удивительно — шведовъ нисколько не поразила перемѣна
капитана на «Ильичѣ». Оказывается, съ совѣтскими судами это
обыкновенная исторiя. Завтра съ ледоколомъ идемъ дальше. Если благополучно проскочимъ
«желѣзныя ворота», черезъ недѣлю будемъ въ указанномъ вами
мѣстѣ. Шведы утверждаютъ, что при нынѣшнемъ лѣтѣ,
тепломъ и дождливомъ, раньше конца сентября не будетъ настоящаго ледостава.
Значитъ четыре рейса намъ обезпечены. Только вы успѣвайте насъ принять…
Все…
Аппаратъ точно изъ приличiя пощелкалъ еще немного,
потомъ все стихло. Капитанъ Немо снялъ съ себя наушникъ. Онъ всталъ и прошелся
по кабинету.
— Ты слышалъ, Петръ Сергѣевичъ. Медлить
больше нельзя. Твои отряды готовы?
— Да… Болѣе или менѣе. Насколько
можно было въ такой короткiй срокъ изучить такое сложное и большое дѣло.
— Я тебя понимаю. То, что намъ надо знать такъ
безпредѣльно, что сколько ни изучай, все останутся необслѣдованныя
области знанiя. Все тысячи вопросовъ будутъ безъ отвѣта. Что
дѣлать? — найдете отвѣты на мѣстѣ, ихъ подскажетъ вамъ
сама жизнь. Настало время дѣйствовать. Иначе, пока солнышко взойдетъ — роса
очи выѣстъ. Каждый день, что коммунисты остаются у власти, усиливаетъ ихъ
на годы и приближаетъ возможность мiровой революцiи и гибели европейской
культуры… Мы начнемъ… Другiе намъ помогутъ… Братья Русской Правды борются уже
давно. За нами, а когда все узнаетъ, и съ нами — громадный Обще-Воинскiй Союзъ…
Итакъ приступимъ… Проси ко мнѣ сейчасъ всѣхъ начальниковъ отрядовъ,
Русскихъ и иностранныхъ… Когда я ихъ отпущу, пусть явятся ко мнѣ летчики машинъ,
назначенныхъ подъ отряды.
— Слушаюсь…
Ранцевъ спускался быстрой походкой съ горы.
Кругомъ томительно красивая была лунная ночь. Внизу тусклыми казались фонари на
лагерной линейкѣ. Мертвая тишина была на острову. Океанъ былъ тихъ.
Изрѣдка онъ точно вздыхалъ во снѣ. Набѣгала волна прибоя. Это
молчанiе природы смягчало и умиротворяло бурно колотившееся сердце Ранцева.
Вотъ оно, то, о чемъ столько лѣтъ въ
эмиграцiи онъ мечталъ — начинается… И какъ!…
X.
Такъ же, какъ и Ранцевъ, всѣ офицеры,
кого въ этотъ позднiй часъ разбудили и потребовали къ капитану Немо, долгiе
годы эмигрантскаго бытiя, не переставая, мечтали о томъ, какъ они вернутся на
родину. Возвращенiе въ Россiю было смысломъ ихъ жизни. Безъ мечты о немъ и
самая жизнь была невозможна.
Въ разное время по разному представлялось имъ возвращенiе
въ Россiю и работа тамъ.
Чаще всего имъ рисовалось, что гдѣ то…
скорѣе всего въ Юго-Славiи формируется русская армiя. Во главѣ ея
становится благороднѣйшiй, единовѣрный король рыцарь Александръ и
ведетъ эту армiю черезъ Румынiю въ Бессарабiю и начинаетъ новый
побѣдоносный походъ на Москву. Они идутъ въ его армiи, кто простыми
рядовыми, кто ротными, кто батальонными или полковыми командирами. Въ этихъ
мечтахъ походъ всегда рисовался опредѣленными чертами. Сборъ въ какомъ то
лагерѣ. Вооруженiе и снаряженiе. Короткое, но умѣлое «интенсивное»
обученiе. Эшелоны. Выгрузка. Походная колонна. Мѣры охраненiя.
Развѣдка и бой… Непремѣнно
бой… Далекiй гулъ чужой артиллерiи и бѣлые дымки разрывовъ въ синемъ
небѣ надъ головами.
Смѣлое и быстрое движенiе не ложащихся
цѣпей…
Варiанты были разные, но смыслъ былъ одинъ —
бой и входъ побѣдоносныхъ полковъ въ Одессу, Елизаветградъ, Черкасы,
Полтаву, Харьковъ…
Иногда все это представлялось въ воображенiи
по иному. Образумились нѣмцы. Хитлеръ, что ли перевернулъ всѣ ихъ
планы? Они порвали съ большевиками, заключили союзъ съ французами и
«бѣлая армiя» выдвигается изъ Эстонiи и Финляндiи — прямо на Петербургъ…
Чего бы проще?… Вся операцiонная линiя меньше ста верстъ… Или это Францiя приказала
Польшѣ, и бѣлая армiя формировалась въ Польшѣ и шла на
Двинскъ и Псковъ, или на Великiе Луки и Москву…
Порою думали, что все это можетъ случиться иначе…
безъ нихъ. Вдругъ какимъ то свѣтомъ озарится и прозрѣетъ красная
армiя, свергнетъ совѣтскую власть и тогда всѣмъ имъ «бѣлымъ»
офицерамъ придется вернуться въ порядкѣ — приглашенiя. Въ воображенiи рисовалось,
какъ они входятъ съ волненiемъ въ красноармейскiя казармы… Найдутъ ли они тогда
общiй языкъ со вчерашними крас-комами и смогутъ ли, все позабывъ, служить съ
ними новой, не большевицкой Россiи?
Болѣе смѣлые, нетерпѣливые и
рѣшительные, особенно тѣ, кто состоялъ въ Братствѣ Русской
Правды мечтали о командировкѣ «туда». Имъ давали фальшивые паспорта,
визы, снабжали деньгами, оружiемъ, «явками» и они ѣхали съ великой
опаской, каждую минуту рискуя быть узнанными, преданными, арестованными, подвергнутыми
пыткамъ и уничтоженными. Подвигъ?… Но какой страшный, не каждому доступный
подвигъ!
И вотъ теперь… Свершилось… Они ѣдутъ
туда… Какъ все это было совсѣмъ по иному, чѣмъ они думали!…
Они входили одинъ за другимъ въ баракъ капитана
Немо и выстраивались кругомъ большого письменнаго стола, за которымъ стоялъ
Немо. На столѣ подъ низко спущенной лампой была разложена карта Россiи.
Стукъ сапогъ, шопотъ и покашливанiе
взолнованныхъ ночнымъ вызовомъ начальниковъ отрядовъ смолкъ. Капитанъ Немо поднялъ
голову и спросилъ
Ранцева:
— Всѣ?
— Такъ точно, Ричардъ Васильевичъ.
— Прошу начальниковъ первыхъ пяти отрядовъ,
объединенныхъ подъ начальствомъ Петра Сергѣевича Ранцева подойти ко
мнѣ.
Въ толпѣ, стоявшей вокругъ стола
произошло перемѣщенiе. Пять человѣкъ съ серьезными и сосредоточенными
лицами стали противъ Немо.
Капитанъ Немо широкою ладонью накрылъ одно
мѣсто на картѣ.
— Господа, вы въ общихъ чертахъ знаете вашу
задачу. Вы давно получили соотвѣтствующiе отрѣзки картъ и вы должны
были ихъ изучить. Объ этомъ краѣ всегда какъ то было у насъ неправильное
представленiе. He такой дикiй и не такой холодный это край. Уже къ началу
Великой войны онъ былъ вдоль рѣки густо покрытъ поселками и селами, и
промысла въ немъ процвѣтали. Великая война сгуствда въ немъ населенiе. Военно
плѣнные… Ихъ охрана… Все это пустило тамъ какiе то корни. Теперь,
смотрите… При большевикахъ… Вотъ эти розовыя пятна — это громадные лагери рабовъ,
концентрацiонные лагери ссыльныхъ… Общее число людей въ нихъ заключенныхъ
доходитъ до пяти миллiоновъ человѣкъ… Это рабочiе и крестьяне… Кулаки и
подкулачники… Наиболѣе крѣпкiй и предпрiимчивый народъ… Тамъ лютою
ненавистью ненавидятъ большевиковъ. Да… они изнурены недоѣданiемъ и
болѣзнями. Измучены каторжнымъ трудомъ въ невѣроятныхъ условiяхъ
жизни. Но изъ миллiоновъ людей найдутся сотни тысячъ, которые при
соотвѣтствующемъ питанiи окрѣпнутъ… Никакихъ дорогъ… Въ короткое
лѣто рѣдкiе пароходы по рѣкѣ, да почтовый, плохо
содержимый трактъ… Перегородить рѣку лучами профессора Вундерлиха,
поставить такiя же ядовитыя лучевыя заставы на немногихъ дорогахъ, снять
телеграфъ и радiоаппараты — да послѣднiе вотъ уже больше мѣсяца работаютъ
для насъ, принимая только нашу станцiю, — и вы становитесь полными хозяевами
громаднаго края… Вы прилетите туда, никѣмъ не обнаруженные и незамѣченные
на аэропланахъ. Гдѣ нужно — уничтожите чекистовъ. Именемъ Русскаго
Государя вы возьмете власть въ свои руки. Вы сдѣлаете по деревнямъ наборъ
и приступите къ организацiи и обученiю Русской армiи. Снаряженiе, одежду и
оружiе вамъ везетъ «Мститель». Онъ теперь называется «Гекторомъ» и идетъ подъ
тѣмъ же экзотическимъ флагомъ, подъ которымъ мы вышли изъ Сенъ Назэра на
«Немезидѣ». Начнете съ роты… Развернете ее въ батальонъ… Создайте учебныя
команды… Постепенно сводите въ полки, бригады, дивизiи. Время у васъ будетъ.
«Гекторъ» будетъ вамъ доставлять все, что нужно. Понадобятся офицеры и старшiе
начальники, снесетесь съ Обще-Воинскимъ Союзомъ и получите готовые кадры
полковъ. Ваша задача создать крѣпкую духомъ, сильную армiю, тысячъ въ
четыреста, основательно ее воспитать
и обучить. Эта армiя должна будетъ потомъ въ Россiи смѣнить
безвѣрныя красноармейскiя части, пропитанныя коммунистическимъ духомъ.
Тѣ всѣ распустите… Вамъ никто не помѣшаетъ… Идти къ вамъ надо
походомъ. Это мѣсяцы пути. Газовыя заставы не пропустятъ никого.
Аэропланы?… Но у васъ останутся ваши аэропланы, снабженные минами, неслышные,
невидимые, вы ими собьете любой воздушный флотъ противника. Какъ ничего не могъ
сдѣлать красный воздушный флотъ съ мятежными текинцами въ лескахъ Ферганы
и Хореизма, такъ здѣсь еще меньше онъ сможетъ причинить вамъ вреда…
Сколько времени вамъ на это? Ну… восемь мѣсяцевъ?… Годъ?… Черезъ годъ
должно быть все готово… Вы идете со своими временными или, если успѣютъ
вамъ доставить, старыми знаменами Русской армiи дальше… по Россiи… Съ бѣлыми
знаменами, на которыхъ ничего не написано, ходятъ только сдаваться. На вашихъ,
какъ и на старыхъ Русскихъ знаменахъ должно быть написано: — «за вѣру,
царя и отечество»… Все должно быть ясно въ вашихъ головахъ, и эту ясность вы
должны нести съ собою… Вы полетите сегодня съ разсвѣтомъ. Прошу собраться
и изготовиться къ полету такъ, какъ это вамъ было не разъ указано… Петръ Сергѣевичъ,
прошу тебя остаться со мною. У тебя все готово?
— Все.
— Ну такъ тебѣ и собираться особенно не
надо. Вы можете идти… Попрошу — Петербургъ, Москву, Кiевъ, Харьковъ и Ростовъ.
Вызываемые подошли къ столу и стали въ ожиданiи
инструкцiй. За тонкими стѣнами барака было слышно, какъ съ взволнованнымъ
говоромъ спускались съ горы люди Ранцевскихъ отрядовъ. Слышнѣе
шумѣлъ океанъ. Приливъ начинался. При блескѣ луны медленно
шествовала надъ мiромъ полная неразгаданной, неизъяснимой тайны ночь.
XII.
Ночь еще была въ полной силѣ. Румяный
мѣсяцъ склонялся къ западу, когда послѣднiй начальникъ отряда,
получивъ указанiя отъ капитана Немо, вышел ь изъ барака. Капитанъ Немо и
Ранцевъ остались одни.
Немо подошелъ къ Ранцеву и обѣими руками
взялъ своего стараго друга за руки.
— Прощай, мой милый, дорогой мой Петрикъ, — сказалъ
онъ. — He говорю тебѣ «до свиданiя»: — врядъ ли когда еще свидимся… Прощай…
Я вѣрю… Я не сомнѣваюсь, что вы сдѣлаете великое дѣло…
Вы спасете Россiю… весь мiръ… отъ большевиковъ… Вы, доблестные Русскiе офицеры,
сказавшiе что на вашемъ посту васъ можетъ смѣнить только смерть… Сколько
васъ за это время нашло эту почетную смѣну… Кутеповъ… Александръ
Павловичъ Кутеповъ, посмотри на своихъ сподвижниковъ!… Помолись за нихъ у
Престола Всевышняго!… Конради, Коверда, да дастъ вамъ Господь счастье скоро
увидѣть завершеннымъ то дѣло, которое вы такъ
беззавѣтно честно и славно начали.
Захарченко-Шульцъ, образецъ офицерской жены, герой женщина, Сусалинъ,
Ларiоновъ, Мономаховъ, Соловьевъ, Карташовъ, вы, живые и мертвые, Братья
Русской Правды, Партизаны Зеленаго Дуба, смѣлые борцы за свободу
Туркестанскихъ степей Данаидъ ханъ и Измаилъ бекъ… Ты видишь, Петрикъ, сколько
смѣлыхъ, доблестныхъ людей проложило вамъ тропы. Вы идете не въ
неизвѣстность. Эти маленькiе, одинокiе, живые и мертвые, подготовили вамъ
почву. А сколько еще вы встрѣтите тамъ такихъ, о комъ мы здѣсь и не
знаемъ и не подозрѣваемъ, но кто давно и также доблестно и безкорыстно
работаетъ во имя свободы Родины. Я тебѣ вѣрю, Петрикъ. Я
вѣрю, что не закружится у тебя голова, когда ты станешь во главѣ
тобою созданной прекрасной, христолюбивой, Русской армiи и поведешь ее на
Москву и Петербургъ… Я вѣрю, что въ тебѣ, простомъ Русскомъ
офицерѣ… Ранцевѣ… Какая,
Петрикъ, фамилiя у тебя хорошая… Ранцевъ!…
Все тяжелое, что лежитъ на солдатѣ, ты взялъ на свои офицерскiя плечи и
доблестно въ ранцѣ души своей
донесешь до славной побѣды. Я вѣрю, что въ твоемъ сердцѣ
нѣтъ Наполеона Бонапарта. He для себя… Нѣтъ!… Для своего будущаго
Государя!… Ему построишь свои великолѣпныя войска на Красной ли площади
въ Москвѣ, или въ Петербургѣ у Зимняго Дворца, ему скомандуешь: —
«Шай на краулъ», а самъ скромно опустишь, салютуя, шашку и отойдешь въ сторону…
Вѣдь такъ?…
— Отъѣду, Ричардъ.
— Да. Отъѣдешь … Конечно, отъѣдешь
… галопомъ … Ну иди. И тебѣ какъ то тоже собраться надо … Сейчасъ и
летѣть … Прощай … Дай, Петрикъ, я перекрещу тебя.
Капитанъ Немо горячо обнялъ Ранцева, перекрестилъ
и поцѣловалъ его. Слезы блистали на его глазахъ. Онъ и не старался скрыть
ихъ.
— Милый мой Петрикъ … Всегда я любилъ тебя …
Съ кадетскихъ лѣтъ … Свѣтлая у тебя душа … Ну дай тебѣ Богъ!
… Иди … иди! …
Капитанъ Немо положилъ руку на плечо Ранцева и
такъ и довелъ его до спуска съ горы.
Тропическая ночь была надъ островомъ. Большiя,
яркiя, южныя звѣзды блистали на небѣ. Внизу, гдѣ желтыми,
расплывчатыми огнями свѣтились освѣщенныя изнутри палатки лагеря
были слышны голоса и кто то громко кричалъ, — въ тихомъ прозрачномъ ночномъ воздухѣ
каждое слово было слышно на площадкѣ у барака капитана Немо:
— Нифонтъ Ивановичъ, а Нифоитъ Ивановичъ! ….
Вы намъ чай то сготовите? …
И бодро отвѣчалъ отъ костра изъ кустовъ
алоэ старый Агафошкинъ:
— Есть, готовлю. Заразъ и вода кипитъ. Фирсъ
сей минутъ разносить будетъ. Пожалуйте въ столовку.
XIII.
Едва брызнули первые золотые лучи солнца изъ
за океана и освѣтили розовымъ свѣтомъ вершину горы Россiйскаго
острова, какъ на мачтѣ сталъ подниматься большой Русскiй флагъ. На
передней линейкѣ построилась Нордековская рота. Взяли «на краулъ».
Оркестръ Амарантова торжественно и плавно игралъ гимнъ.
И въ тотъ же мигъ изъ одного изъ шестидесяти
ангаровъ на кругъ, обозначенный на лугу бѣлымъ пескомъ плавно выкатилъ
аэропланъ № 1 и остановился на точкѣ. Тѣнь горы закрыла его. На
передней площадкѣ лѣвѣе Нордековской роты, нагруженные чемоданами
и увязками въ авiаторскихъ шубахъ и шлемахъ выстроились люди девяти отрядовъ.
Къ нимъ спустился съ горы капитанъ Немо.
— Первый отрядъ, выходи на посадку, — скомандовалъ
онъ.
Шесть человѣкъ во главѣ съ
Ранцевымъ отдѣлились отъ шеренги и пошли къ аэроплану.
У входа къ кабину капитанъ Немо молча пожалъ
каждому руку.
— Можно пускать? — спросилъ Арановъ.
— Съ Богомъ!
Верхнiе пропеллеры закрутились съ мягкимъ, едва
слышнымъ шипѣнiемъ. Сильный вихрь едва не сорвалъ съ Аранова шляпу.
Аэропланъ безшумно отдѣлился отъ земли, отвѣсно поднялся надъ
головами, ускорилъ свой полетъ вверхъ, черезъ мгновенiе онъ былъ уже надъ
горою, сдѣлалъ красивый, плавный кругъ надъ Русскимъ флагомъ и
серебряною, едва примѣтною въ небѣ точкою умчался на сѣверо-востокъ
и исчезъ въ блистанiи солнечныхъ лучей въ розово-голубомъ утреннемъ небѣ.
И сейчасъ же изъ второго ангара на ту же точку
сталъ аппаратъ № 2.
— Второй отрядъ выходи на посадку!
Такое же молчаливое пожатiе руки, сердечное: —
«съ Богомъ» — и второй аэропланъ исчезъ, точно растворился въ безкрайнихъ
небесныхъ просторахъ.
Девять отрядовъ, 54 человѣка команды и
18 летчиковъ улетѣли съ острова и стало на островѣ будто безлюдно и
торжественно тихо.
Между часомъ и тремя у прiемника радiо
аппарата игралъ оркестръ и пѣлъ хоръ Гласова. Ванечка Метелинъ надрывался
въ радiо, съ изступленiемъ и страстью призывая Русскiй народъ къ общему
возстанiю.
— Неужели, неужели нѣтъ, — кричалъ онъ
съ внутреннимъ надрывомъ, красивымъ звучнымъ голосомъ, — ни въ Россiи, ни въ
Германiи, ни во Францiи, ни въ Англiи людей честныхъ, серьезныхъ, умныхъ,
которые пошли бы съ оружiемъ на коммунистовъ? … Неужели роковою силою,
фатально, неминуемо, неизбѣжно, какимъ то рокомъ увлекаемая Европа и съ
нею весь мiръ катится, стремглавъ, въ пропасть? Неужели это неминуемо? …
Неужели ни молитвы, ни добрая воля, ни разумъ, ни предвидѣнiе, ничто не
предотвратитъ катастрофы? … Нѣтъ! … Это не такъ! … Слушайте всѣ …
Во всемъ мiрѣ слушайте … Насталъ часъ Божiей мести. Всѣ люди въ
кол-хозахъ будутъ заклеймлены антихристовой печатью … Кто посмѣетъ
усмирять возставшихъ — смертiю погибнетъ. Идите … Идите войною на коммунистовъ,
иначе это они поведутъ васъ на войну съ цѣлымъ мiромъ …
Потомъ увлекательно, молитвенно, несказанно
красиво и съ большимъ подъемомъ Гласовскiй хоръ пѣлъ:
— «съ нами Богъ, разумѣйте, языци и
покоряйтеся, яко съ нами Богъ» …
Отвѣсные лучи солнца упадавшiе на крышу
навѣса давали внизу густую синюю тѣнь. Лица пѣвцовъ были
сосредоточены и серьезны. Каждый понималъ, что подвигъ спасенiя Родины начался. Передъ хористами былъ только
черный кругъ радiо прiемника — имъ казалось, что вся Россiя, весь мiръ ихъ
слушали. Они никогда еще не испытывали такого нервнаго подъема. Никогда не было
ихъ пѣнiе такъ вдохновенно и не лилось такъ отъ самаго сердца. Имъ
казалось, что ихъ голоса мчатся за тѣми серебряными птицами, что сегодня
утромъ улетѣли на сѣверо-востокъ, что они догоняютъ ихъ, что они
имъ помогаютъ, несутъ имъ силу и власть побѣды.
На другой день еще новая партiя въ десять летательныхъ
машинъ съ такою же торжественностью, молчаливою простотою направилась въ
указанныя капитаномъ Немо мѣста.
Лагерь на острову Россiйскомъ пустѣлъ.
XIV.
Съ отъѣздомъ «мужчинъ», какъ называла
Ольга Сергѣевна мужа и сына, жизнь на виллѣ «Les Coccinelles» круто
измѣнилась.
Физическiй законъ, что природа не терпитъ
пустоты, повидимому относился и къ пустымъ квартирамъ. He прошло и недѣли
послѣ отъѣзда Агафошкина, какъ въ его подвальную мастерскую
вселилась французская семья Боннейлей, состоявшая изъ постоянно пьянаго мужа,
беременной жены и двухъ маленькихъ дѣтей. A еще черезъ два дня хозяинъ
сдалъ комнату-гробъ Мишеля Строгова молодой француженкѣ Софи Земпель,
студенткѣ изъ Сорбонны.
— Конечно — жидовка, — сказала про новую жилицу
Ольга Сергѣевна.
— Ну что же что еврейка, — сказала мамочка. —
Былъ бы хорошiй человѣкъ. И Леночка не такъ одинока будетъ. Можетъ съ нею
и науками заинтересуется.
По «мужчинамъ», первое по крайней
мѣрѣ время, не очень скучали. Было даже какъ то легче и свободнѣе.
Полковникъ не раздражалъ Ольгу Сергѣевну своимъ параднымъ видомъ, Мишель
Строговъ не мѣшалъ глупыми выходками. Мамочкѣ тоже стало легче: —
можно было не готовить обѣда на всѣхъ, а ограничиваться кофе и
круассанами. По настоящему скучала по полковнику только одна Топси. Она
искренно скулила по нему, но ей не вѣрили.
— Это она щенятъ не можетъ забыть, — говорила
мамочка.
Топси виновато, улыбалась и думала: — «дались
имъ эти щенята, совсѣмъ они не понимаютъ собачьихъ чувствъ». Она по прежнему
бѣгала по утрамъ за газетой, но теперь приносила газету мамочкѣ,
которая равнодушно брала ее и откладывала до своего кофе. Было Топси скучно и
безъ стараго Нифонта Ивановича. Собака чувствовала въ немъ вѣрнаго друга.
Софи Земпель какъ то очень скоро сумѣла
втереться въ семью Нордековыхъ. Это была услужливая и любезная дѣвушка неопредѣленныхъ
лѣтъ. Она съ интересомъ и охотою слушала Леночкины разсказы о жизни въ Совѣтской
республикѣ, но ничему не возмущалась.
— Это потому, — говорила Ольга
Сергѣевна, — что она не понимаетъ. Испытала бы на своей шкурѣ, такъ
стала бы понимать.
— Все таки милая дѣвушка, — сказала
мамочка. — Ты посмотри вотъ и еврейка, а какая услужливая. И въ лавку сходитъ,
за трудъ себѣ не сочтетъ и Леночку обѣщала въ Сорбонну сводить. Все
ума наберется сколько нибудь. Наша бы, развѣ такъ поступила бы?
Наша — это разумѣлось — Русская.
Леночка была въ восторгѣ отъ новой
подруги. Отъ дѣтства осталось у ней преклоненiе передъ иностранцами. Софи
же была француженка и еще парижанка …
Въ эти дни, когда жизнь на виллѣ «Les
Coccinelles» начала только утряхаться и вступать въ новую колею, мамочка за
своимъ дневнымъ кофе прочла въ газетѣ, что на судахъ въ Атлантическомъ
океанѣ было получено радiо, призывъ о помощи, подаваемый съ парохода
«Немезида» отъ Антильскихъ острововъ. Сначала мамочка хотѣла утаить эту
газету отъ Ольги Сергѣевны, а когда та спроситъ, чтобы читать на ночь,
сказать ей, что газеты не было. Но вспомнила, что Ольга Сергѣевна видала,
какъ собака утромъ принесла газету и рѣшила не только дать газету, но и
показать мѣсто, гдѣ было напечатако о «Немезидѣ».
«Все равно», — думала она, — «это какъ «винтики».
Отъ нихъ никто никуда не уйдетъ».
Ольга Сергѣевна довольно равнодушно
прочла показанную ей мамочкой замѣтку.
— Ну что же? — сказала она, поднимая глаза отъ
газеты.
— Такъ вѣдь ты, чай, слыхала, тогда въ
газетахъ писали, что наши на какой то «Немезидѣ» поѣхали.
— Такъ постойте, мама. А гдѣ эти самые
Антильскiе то острова находятся? …
— Я думаю, въ Великомъ океанѣ.
— Такъ наши-то не могли такъ скоро добраться
до нихъ. «Немезида» для парохода слишкомъ обыкновенное имя. Мало-ли какiя еще
«Немезиды» могутъ быть. И опять же сигналы о бѣдствiи, это не значитъ,
чтобы крушенiе, или что нибудь такое.
Какъ-то совсѣмъ не вмѣщалось въ ея
головѣ представленiе о томъ, что полковника можетъ постигнуть
какое-нибудь несчастье. Всѣ несчастья, такъ ей казалось, остались «тамъ»,
въ Россiи. Здѣсь, заграницей, они, наконецъ, обрѣли тихую пристань,
гдѣ можно отдохнуть отъ неожиданныхъ смертей и опасностей.
И когда на другой день къ ней пришла растревоженная
Лидiя Петровна Парчевская, она такъ увѣренно говорила, что ничего съ ихъ
мужьями не могло случиться, что это какая-то другая «Немезида», что «ихъ» «Немезида»
никакъ не могла быть уже у Антильскихъ острововъ, что Лидiя Петровна
цѣловала Ольгу Сергѣевну и говорила:
— Ну, какъ я вамъ благодарна за это … Какъ вы
меня успокоили. Я сегодня и на службѣ была сама не своя. Никакъ не могла
заставить себя не думать объ этомъ.
Потомъ прошло два томительныхъ дня. Никакихъ
ни подтвержденiй, ни опроверженiй тревожнаго радiо въ газетахъ не было. Теперь Ольга
Сергѣевна сама дожидалась Топси съ газетой и первая отбирала ее отъ нея.
Она жадно проглядывала влажные листы и съ трепетомъ ожидала дальнѣйшихъ
извѣстiй.
На третiй день въ газетѣ появилась
большая замѣтка газетнаго освѣдомителя по совѣтскимъ
дѣламъ. Онъ прямо и точно, такъ точно, будто онъ самъ присутствовалъ при
крушенiи «Немезиды», описывалъ, что на пути къ Панамскому каналу, не доходя до
Антильскихъ острововъ, при совершенно исключительныхъ и загадочныхъ
обстоятельствахъ погибъ пароходъ, прiобрѣтенный анонимнымъ
кинематографическимъ обществомъ «Атлантида». На этомъ пароходѣ, носившемъ
наименованiе «Немезида», шло, не считая команды, около трехсотъ статистовъ кинематографическаго
общества, почти исключительно «бѣлыхъ» офицеровъ. По отзывамъ товарищей
все это были самые активно настроенные офицеры, непримиримѣйшiе
противобольшевики. «Немезида» погибла тамъ, гдѣ вообще никогда никакихъ
крушенiй не отмѣчалось. Она, повидимому, затонула отъ неизвѣстной
причины на большой глубинѣ. Ни подводныхъ скалъ, ни мелей тамъ не было.
Послѣднсе вре-мя не было и сколько-нибудь значительныхъ бурь въ
Атлантическомъ океанѣ. Авторъ замѣтки, нѣкто Сергѣевъ,
морской офицеръ, отмѣчалъ загадочность этого крушенiя и писалъ, что оно
должно быть отнесено къ числу такихъ же непонятныхъ и неразгаданныхъ явленiй
нашего времени, къ какимъ относится исчезновенiе среди бѣла дня изъ Парижа
генерала Кутепова. Онъ писалъ, что ему извѣстно, какъ интересовались
большевики кинематографическимъ обществомъ «Атлантида», какъ старались, подъ
тѣмъ или другимъ видомъ, попасть въ него … Въ томъ же номерѣ
газеты, нѣсколькими строками ниже, было помѣщено сообщенiе, что примѣрно
недѣли двѣ тому назадъ совѣтская подводная лодка находилась
въ водахъ Гавра.
Ольга Сергѣевна прочла это
извѣстiе и перечла его нѣсколько разъ и все-таки мысль ея
отказывалась воспринять, что ея мужъ и сынъ погибли на днѣ океана. Уже
слишкомъ все это казалось быстрымъ, неожиданнымъ и необыкновеннымъ. Она пошла
на службу, добросовѣстно и, какъ всегда безъ ошибокъ, писала подъ диктовку
своего патрона. Она вернулась домой и все была въ томъ же отупѣнiи.
Мамочка не трогала ее. Леночка молчала. Обѣ какъ-то почтительно отнеслись
къ ея горю. А она при всей своей пришибленности все не вѣрила въ то, что
это могло случиться и думала о мужѣ и о сынѣ не какъ о мертвыхъ, но
какъ о живыхъ.
Русскiя газеты запестрѣли объявленiями
въ черныхъ рамкахъ. Служили панихиды полковыя объдиненiя, служили «убитыя»
горемъ вдовы и матери. Ольга Сергѣевна все не вѣрила.
Дня два газеты этимъ вопросомъ занимались, потомъ
какъ-то быстро охладѣли и позабыли. Русское общество привыкло къ своему
безправiю. Еще со дня потопленiя итальянскимъ пароходомъ на Константинопольскомъ
рейдѣ яхты генерала Врангеля, потомъ послѣ осужденiя Коверды,
похищенiя генерала Кутепова, Русское общество было научено молчать и «не рипаться».
Оно и теперь замолчало. Другiя, болѣе важныя событiя заслонили гибель
«Немезиды». Въ Испанiи была революцiя, Германiя катилась къ какому-то странному
банкротству среди изобилiя, король Альфонсъ, Маура, Каталонцы, канцлеръ Брюнингъ,
Хитлеръ, разъѣзды
премьеровъ по всему
свѣту вытѣснили съ газетныхъ столбцовъ таинственную «Немезиду», на
которой погибло до трехсотъ офицеровъ. Гибель Русскихъ людей заграницей была
настолько привычнымъ явленiемъ, что уже никого не смущала. Молодежь умирала отъ
переутомленiя и чахотки, старики кончали съ собою отъ голода, безработицы и
одиночества. Не хватало на всѣхъ жалости.
Кое-гдѣ, тамъ, гдѣ среди погибшихъ
не было родственниковъ, даже злорадствовали. «Сунулись со своимъ Русскимъ суконнымъ
рыломъ какiе-то таинственные Холливуды основывать. На островахъ Галапагосъ!
Куда ихъ понесло! Не могли точно устроить студiю хотя бы въ томъ же Медонѣ?
Если въ сильный вѣтеръ Сену снимать и горизонтъ ловко поставить — не хуже
океанской волны выйдетъ. Зря какую уймищу денегъ ухлопали … Вотъ на такiя
затѣи, на театры, оперы, на памятники балеринамъ деньги всегда найдутся,
а дать заслуженнымъ старикамъ пенсiю, поддержать стипендiями молодежь, помочь
безработнымъ, или инвалидамъ, на это денегъ никогда не найдешь …»
Грусть и отчаянiе лишь постепенно
овладѣвали Ольгою Сергѣевной и она только черезъ нѣсколько
дней ощутила, осознала и поняла, что такое — неутѣшное горе.
XV.
Ольга Сергѣевна пришла въ воскресенье въ
церковь рано, когда въ ней никого прихожанъ не было. Сторожъ, старикъ, «бывшiй»
генералъ только что открылъ двери и медленно, шаркая слабыми ногами, ходилъ по
церкви, стиралъ пыль и зажигалъ лампадки.
Посерединѣ на сколоченномъ изъ досокъ широкомъ
налоѣ, покрытомъ чистымъ полотенцемъ, былъ поставленъ небольшой образъ
Казанской Божiей Матери … Говорили: — чудотворный образъ. Его привезли вчера ко
всенощной. Образъ былъ убранъ пучками нѣжныхъ бѣлыхъ нарциссовъ. На
нихъ были положены кисти розовыхъ маленькихъ вьющихся розочекъ. Несказанно
нѣженъ, красивъ и дѣвственно чистъ былъ отъ этихъ цвѣтовъ
уборъ «Невѣсты Неневѣстной».
Ольга Сергѣевна подошла къ образу и
опустилась на колѣни. Еще не склоняя головы, она оглянула церковь. Ей
часто раньше представлялось, что это не настоящая церковь. Сейчасъ она поняла,
что именно въ этой простотѣ нищенски бѣдно убраннаго храма съ простымъ
холщевымъ иконостасомъ, съ печатанными на бумагѣ образами и есть
свидѣтельство, что здѣсь незримо присутствуетъ Господь. Именно это
и есть настоящая церковь. Она создана не тщеславiемъ людскимъ, не отъ избытка и
изобилiя, а отъ нищеты. Это лепта вдовицы, такъ благосклонно принятая Христомъ.
Ее созидала глубокая вѣра. На нее давали, отказывая себѣ въ необходимомъ,
украшать ее приходили люди, валившiеся съ ногъ отъ усталости послѣ дня,
проведеннаго въ тяжкой, непосильной и непривычной работѣ.
Ольга Сергѣевна умилилась. Она нагнулась
въ земномъ поклонѣ передъ Матерью Бога и поняла, что Богъ ее услышитъ.
Она хотѣла молиться, но почувствовала, что не можетъ молиться, не
покаявшись. Она такъ была виновата передъ мужемъ и сыномъ.
«Онъ правъ … Онъ, а не я … И отступленiя «по
стратегическимъ соображенiямъ» … А, если и точно такъ надо было? Нельзя было
иначе? Почему онъ виноватъ, когда всѣ такъ дѣлали. Такъ было надо ….
Такъ было отъ Бога … Прости меня, Боже, Святая Матерь, попроси у Господа, Сына
Твоего, мнѣ прощенiе. И прiятiе революцiи … Какъ же онъ могъ не прiять
ее, когда всѣ, и самъ Государь ее приняли? … Я … Я была не права. Господи
прости меня. Георгiй, ты слышишь, прости меня… И теперь эти ихъ полковыя
объединенiя, полковой музей, собранiя, — это служенiе Родинѣ, а я только
о себѣ и думала. Они себя забывали. Они отъ своего малаго личнаго
отдавали идеѣ … Они подлинно были герои. Господи, прости меня. Георгiй,
ты слышишь, Георгiй, я… я была не права … Прости меня, Георгiй».
Она прижалась лбомъ къ полу, гдѣ лежалъ
маленькiй дешевый коврикъ и долго не разгибала спину. Она чувствовала боль въ
поясницѣ. Эта боль ее радовала. Она приподняла голову, перекрестилась и
подумала: — «и то, что Шура сталъ Мишелемъ Строговымъ, развѣ онъ
виноватъ? Я не должна была его оставлять и, когда онъ вернулся, я должна была
влiять на него … Я съ нимъ даже мало разговаривала. Все некогда …. Все устала …
Раздражалъ онъ меня и не могла я съ нимъ спорить …. Шура, прости меня» …
Она, не поднимая головы, ощутила, какъ
подлѣ нея кто-то тихо опустился на колѣни. И она знала, что это
была Лидiя Петровна. Она сквозь бѣгущiя мысли и молитвы слышала движенiе
въ храмѣ. Должно быть свщенникъ прошелъ въ алтарь, чтецъ на клиросѣ
шелестѣлъ листами книгъ. Запахъ ладана сталъ заглушать благоуханiе
нарциссовъ. Раздували въ алтарѣ кадило.
Ольга Сергѣевна, не вставая съ
колѣнъ, выпрямилась. Большими, покрытыми слезною пленкой глазами она
смотрѣла, какъ подлѣ нея Парчевская убирала принесенными
свѣжими, и все бѣлыми, нарциссами образъ. Сзади Парчевской
протянулась тоненькая худая ручка, и Ольга Сергѣевна по ней узнала —
Анеля принесла пучекъ розъ. Было въ этомъ украшенiи цвѣтами образа что-то
такое трогательное, красивое, удивительно милое и полное такой чистой
вѣры, что Ольга Сергѣевна съ трудомъ удержала рыданiе.
Когда служба кончилась, Парчевская и
Ферфаксова, подошли къ Ольгѣ Сергѣевнѣ. Онѣ предлагали
отслужить общую панихиду. Хотя общество и обязалось въ случаѣ несчастiя
платить пенсiю, но могло ли общество предвидѣть, что всѣ погибнутъ?
У нихъ не было письменнаго контракта и какъ и гдѣ искать съ общества, о
которомъ онѣ ничего не знали. Будущее было неизвѣстно и нужно было
быть экономными.
— Милая, вы ничего не имѣете противъ, отслужить
сообща, вы, Анеля и я сейчасъ скромненько и безъ пѣвчихъ панихиду по
нашимъ погибшимъ, — сказала Лидiя Петровна.
— Конечно, конечно, — отвѣтила Ольга
Сергѣевна. — Но, можетъ быть, это неправда. Газеты такъ много врутъ.
— Ахъ, милая, далъ бы Богъ! Но панихида и по
живымъ, такъ говорятъ, никогда не повредитъ.
Въ опустѣвшей церкви онѣ служили
панихиду. Батюшка возносилъ моленiя проникновенно и красиво. Дiаконъ — Ольга
Сергѣевна теперь совсѣмъ забыла, что онъ уланскiй штабсъ-ротмистръ,
— пѣлъ за хоръ, не всегда въ тонъ и не все вѣрно, но съ такимъ чувствомъ,
что Ольга Сергѣевна искренно и, уже не скрывая своихъ слезъ, плакала, и
плакали съ нею Анеля и Лидiя Петровна.
Когда дiаконъ сладкимъ баскомъ заливался:
«Бога никто же, видѣ нигдѣ же, на Hero же ангельскiя не смѣютъ
взирати», Ольга Сергѣевна чувствовала трепетъ во всемъ тѣлѣ.
Она не видѣла Бога, но ощущала всею душою своею Его незримое присутствiе
и понимала, какъ она ошибалась, считая, что это не настоящее. Все: и
церковь и дiаконъ было
именно настоящее, такое, какъ надо, угодное Богу.
Она шла домой съ поднятою головой,
увѣренная, что Господь услышалъ ея молитвы и что вотъ сейчасъ, Онъ
пошлетъ ей какое-то знаменiе и скажетъ ей, что самое ужасное, что можетъ быть
въ жизни — уходъ человѣка близкаго навсегда, такъ что ужъ никогда и
никакъ его и не увидишь, ее миновало.
Въ тупичкѣ ихъ переулка она
встрѣтилась съ рѣдкимъ гостемъ виллы «Les Coccinelles» — почтальономъ.
Онъ сказалъ, что у него для нея есть денежный
переводъ, и вернулся съ нею на дачу.
Почтальонъ принесъ обусловленные пенсiонные тысячу
франковъ за мужа и пятьсотъ за сына.
Ольга Сергѣевна приняла деньги,
росписалась на карточкѣ, дала почтальону на чай и, не отвѣчая на
разспросы мамочки, прошла въ свою комнату. Ей надо было собраться съ мыслями.
Что все это значило?.. Они погибли … Но тогда
что же значила и чего стоила ея молитва? Они не могли погибнуть … Общество
выплачиваетъ пенсiи … Что же это за такое честное и богатое общество, не
стѣсняющееся въ расходахъ и, безъ напоминанiя, безъ просьбъ, безъ суда
платящее то, что обязалось, безъ писаннаго контракта? Если всѣ они
погибли, такъ и концы въ воду. Кто же тогда платитъ? Это выходило совсѣмъ
не по современному. Слишкомъ по старинному честно. He практично честно. А что
если ея первая догадка была правильна и общество «Атлантида» совсѣмъ не
кинематографическое общество, но общество политическое, и она получаетъ пенсiю
за погубленныхъ людей … отъ большевиковъ … Большевики станутъ платить деньги за
убитыхъ ими людей! О! Никогда!.. Ну, а если?.. Это нѣчто совсѣмъ
непонятное, что-то вродѣ пресловутаго «треста?»..
Ольга Сергѣевна вынула изъ сумочки
деньги и пересмотрѣла ихъ. Ей пришла въ голову дикая мысль, что
большевицкiя деньги должны быть особенныя. Но деньги были, какъ всегда деньги
съ почты, — старенькiе, исколотые булавками, сотенные, пестрые, засаленные
билеты и ничего въ нихъ страшнаго не было.
Но почему-то эти деньги укрѣпили
зародившуюся въ Ольгѣ Сергѣевнѣ надежду, что ея мужъ и сынъ
живы и увѣренность, что они поѣхали на большое политическое
дѣло, о которомъ надо молчать.
XVI.
Леночка быстро сдружилась съ новой жилицей, Софи
Земпель. Онѣ стали «ами». Это трогало Леночку. По предложенiю Земпель
онѣ вмѣстѣ ѣздили въ Сорбонну, и Леночка, изъ пятаго въ
десятое понимая то, что тамъ читалось, съ увлеченiемъ слушала самыя
разнообразныя лекцiи. Она просвѣщалась въ Ассиро-Вавилонскомъ искусствѣ,
слушала о Португальской поэзiи, о банковскихъ операцiяхъ и разъ даже прослушала
лекцiю о «кривыхъ второго порядка».
Эти лекцiи, все исключительно матерiалистическiя,
— такой подборъ дѣлала Софи Земпель, — говорили Леночкѣ, что, если
во Францiи и нѣтъ того богоборчества, которое она наблюдала въ
совѣтской республикѣ, то есть, пожалуй, еще худшее, игнорированiе,
забвенiе Бога, отрицанiе надобности въ Немъ, въ Его помощи.
Наука все объясняла, наука до всего дошла и
все собою покрывала.
Эта наука, безпорядочныя, безалаберныя лекцiи,
прослушанныя Леночкой въ Сорбоннѣ, упали на ея изуродованную душу, какъ
дрожжи въ тѣсто. Въ ней произошелъ переломъ и создалась своя теорiя жизни
и смерти, тоже своего рода «винтики», какiе были у Неонилы Львовны. Много способствовалъ
этому и кинематографъ, посѣщаемый ею по вечерамъ. Она видѣла говорящiя
тѣни на экранѣ. И ей становилось страшно. Особенно жутко было, когда
она знала, что артистъ или артистка, показываемые на экранѣ, умерли. А
она слышала ихъ голосъ, видѣла образъ, двигавшiйся по полотну. Она
выходила въ толпѣ изъ кинематографа, спѣшила на подземную дорогу,
мчалась къ своему вокзалу, чтобы ѣхать домой, а сама брезгливо жалась отъ
людей. Ей казалось, что она чувствуетъ запахъ тлѣнiя ихъ тѣлъ,
совсѣмъ, какъ тогда, когда она на салазкахъ везла полуразложившiйся трупъ
матери, чтобы зарыть его на кладбищѣ города Троцка. Ей казалось, что
жизни собственно и нѣтъ. Это не живые люди ее окружаютъ, но тѣни,
какъ въ кинематографѣ. Людскiя тѣни прошли и проходятъ безконечными
вереницами по улицамъ мiрового города, появляются и исчезаютъ. И вотъ тотъ, что
только что, выходя изъ вагона, толкнулъ ее, онъ испарится въ ночномъ
туманѣ и исчезнетъ навсегда. Изъ какой-то гадкой слизи возникали люди и
разваливались, распадались опять въ вонючую слизь. Эта мысль стала ее
преслѣдовать и уже было не до миллiоновъ. Стало страшно жить.
На обширномъ дворѣ Сорбонны Леночка
видѣла разноплеменную молодежь, съ веселымъ говоромъ разбѣгавшуюся
по гулкимъ корридорамъ и обширнымъ аудиторiямъ. Она видѣла негровъ и
китайцевъ, англичанокъ и американокъ, учившихся вмѣстѣ, слушавшихъ
лекцiи. Между многими было дружное товарищество. Ихъ шутки, ихъ смѣхъ,
озабоченная бѣготня, вся ихъ шумная толпа напомнили Леночкѣ
совѣтскiе ВУЗ-ы, но только не было среди нихъ совѣтскаго
озлобленiя. Всѣ были болѣе или менѣе хорошо одѣты, и
шутки и шалости этой молодежи были приличны. Леночка поняла, что тутъ, хотя у
многихъ были «ами», нельзя было съ ними обойтись просто и отдаться, какъ
говорилось у совѣтской молодежи «безъ черемухи», или попросить
сдѣлать ребенка.
Въ полдень Леночка и Софи мчались на громыхающемъ
автобусѣ, или въ душномъ вагонѣ подземной дороги куда-то за Этуаль,
въ недешевый ресторанъ, гдѣ ожидалъ ихъ «ами» Софи. Подлѣ Сорбонны,
въ Латинскомъ кварталѣ, было сколько угодно маленъкихъ и такихъ,
казалось, Леночкѣ, симпатичныхъ студенческихъ ресторановъ и столовокъ,
были и болѣе роскошные, но дешевые рестораны «Дюваля», но Софи и ея «ами»
облюбовали Русскiй ресторанъ и ѣхали въ него въ шумной полуденной Парижской
толпѣ, торопящейся завтракать.
Онѣ выскакивали у Этуали и, если шелъ
дождь, забѣгали подъ громаду Трiумфальной арки и стояли тамъ подлѣ
каменной плиты, уложенной вянущими вѣнками и букетами. Леночка со
страхомъ смотрѣла, какъ металось гдѣ-то въ глубинѣ неугасимое
пламя. Ей казалось, что это душа солдата сгораетъ тамъ и не можетъ найти покоя.
Она думала: «значитъ, душа-то есть».
Онѣ спускались по широкому проспекту
круто внизъ и входили въ маленькую, тѣсную, узкую уличку. У панели
длиннымъ рядомъ стояли машины такси. Черезъ тѣсную дверь онѣ
попадали въ Русскiй ресторанъ. За узкими, длинными столами вдоль стѣны на
диванахъ-скамьяхъ рядами сидѣли люди. И было такъ тѣсно, какъ въ
совѣтской столовкѣ. Было сумрачно и душно. Глухой гулъ и гомонъ
голосовъ поражалъ послѣ притихшей въ тюлуденномъ отдыхѣ улички. Отъ
табачнаго дыма першило въ горлѣ. Но на столахъ были бѣлыя скатерти
и вѣжливая прислуга во фракахъ — какъ эти фраки первое время казались
смѣшными Леночкѣ — спрашивала, наклоняясь надъ ухомъ:
— Вамъ борща, или пирогъ съ вязигой? Какой напитокъ
прикажете? Пиво или квасъ?
Жанъ, «ами» Софи, ожидалъ ихъ и берегъ имъ
мѣста. Онъ кричалъ:
— Квасъ … квасъ … Donnez-moi du kwass!.. Странный
человѣкъ былъ этотъ Жанъ. Онъ былъ французъ, но хорошо говорилъ по Русски
и зналъ Россiю. Онъ былъ темный брюнетъ и, какъ тщательно онъ ни брился, его
щеки и подбородокъ были покрыты гладкой синевой. Подъ самыми ноздрями торчали
двѣ крошечныя кисточки, точно не совсѣмъ опрятенъ былъ носъ. Лицо
было безъ морщинъ, блѣдное съ нездоровыми пятнами и прыщами. Онъ носилъ
большiя круглыя очки въ черной роговой оправѣ. Прислуга ресторана
называла его американцемъ и пыталась заговаривать съ нимъ по-англiйски. Леночка
никакъ не могла опредѣлить, ни сколько ему лѣтъ, ни правда-ли, что
онъ былъ французъ. Ему можно было дать и двадцать пять и всѣ сорокъ.
Леночка опредѣлила его по совѣтски: «комиссаръ» въ какомъ-нибудь
хозяйственномъ учрежденiи. Здѣсь онъ могъ быть и адвокатомъ и приказчикомъ,
могъ быть и просто спекулянтомъ, или бирже-вымъ зайцемъ. Софи никогда не
говорила, кто такое ея «ами». Леночка не рѣшалась спросить, кто онъ.
Сидѣли такъ тѣсно, что касались
колѣнями другъ друга. Леночка оглядывала ресторанъ. Въ углу подъ аркой
висѣла икона въ фольгѣ. Противъ Леночки, на стѣнѣ, въ
рамочкахъ были развѣшаны раскрашенныя литографiи, изображавшiя Русскихъ
солдатъ въ старыхъ формахъ. Наискось отъ Леночки у стѣны сидѣлъ
желчный человѣкъ, обросшiй косматой, черной бородой, съ громадными,
вѣрно видавшими нечеловѣческiя муки, страдающими глазами. Онъ
волновался, что ему долго не подавали кофе. И кофе ему подали въ какомъ-то странномъ
приборѣ изъ стекла, напоминавшемъ химическую колбу. Въ немъ на спиртовой
лампочкѣ кипятили воду. Рядомъ съ Леночкой была хорошенькая свѣтлая
блондинка съ подщипанными бровями и большими выпуклыми, карими Русскими
глазами. Она разсказывала скромно одѣтой бдюнеткѣ, сидѣвшей
рядомъ съ нею, про какую-то Муру, устраивавшую прошлое Рождество елку, и какъ
упала съ елки свѣча и сгорѣла скатерть на столѣ.
— Мура, конечно, очень огорчилась, — слышала
Леночка свѣжiй голосъ блондинки сквозь гулъ ресторана. — Понимаешь …
Такая непрiятность …. Надо выйти изъ положенiя …
Желчный бородачъ дымящейся папиросой тыкалъ въ
кофейный приборъ и сердито говорилъ лакею во фракѣ:
— He закипаетъ вашъ кофе … А мнѣ
ѣхать надо … Понимаете, ѣхать надо.
Пожилая, гладко причесанная женщина, съ такимъ
прiятнымъ Русскимъ лицомъ, что Леночка заглядѣлась на нее, стояла въ
глубинѣ, подъ иконой, у входа въ тѣсную гардеробную и внимательно
смотрѣла, кто встаетъ, чтобы быстро подать пальто и шляпу съ тростью.
Въ этой тѣснотѣ, за тарелкой борща,
на Леночку находила откровенность, и она охотно разсказывала Софи и ея «ами»
про свою совѣтскую жизнь, про прiѣздъ въ Парижъ и какъ она все
нашла въ Парижѣ не такимъ, какъ ей казалось въ Ленинградѣ. Она
разсказывала пра бабушку съ ея «винтиками», про полковника и про Мишеля
Строгова. Ей казалось теперь смѣшнымъ ея увлеченiе Мишелемъ и мечты о
миллiонахъ. Сорбонна съ ея лекцiями показали ей другую жизнь. Она вдругъ умолкала
и прислушивалась. Ей казалось, что на мгновенiе смолкалъ и гулъ многихъ
голосовъ. Время на мигъ точно останавливалось.
«Если время подчинить себѣ», — думала
Леночка, — «и допустимъ такъ: каждая секунда, что отбиваетъ пульсъ у меня въ
рукѣ, есть годъ, но только для другихъ, а не для меня».
Она смотрѣла на Жана. Ей казалось, что
она видитъ, какъ на ея глазахъ быстро старѣетъ лицо Жана.. Оно покрывается
морщинами, желтѣетъ; посѣдѣли и полысѣли виски, стали
падать волосы и уже стало лицо мертвымъ, потемнѣло, стало облѣзать
… Какое ужасное зрѣлище. Обнажаются кости. И нѣтъ ничего. Маленькая
лужица слизи, не больше, какъ плевокъ. Это все, что былъ Жанъ. Это все, что
осталось отъ Софи, отъ нея самой. Весь ресторанъ сталъ казаться призракомъ и
было жутко касаться колѣнями колѣнъ Жана.
— Что вы на меня такъ смотрите? — второй разъ
спросилъ Жанъ.
Леночка встряхнулась.
— Я? … Нѣтъ, ничего … Я такъ …
Представьте, какiя у меня мысли.
И она коротко и сбивчиво пересказала Жану
тѣ мысли, что ее мучили.
— А да … Я это такъ понимаю, — сказалъ Жанъ и
отложилъ въ сторону папиросу. — Это въ васъ говоритъ славянская душа … А какъ
же тогда ваши мечты стать звѣздою экрана, заработать миллiоны?
— Я эти мечты оставила. Мнѣ
надоѣла жизнь. Знаете … На мигъ это даже не стоитъ, а вѣчнаго на
свѣтѣ нѣтъ ничего. Да и какъ сдѣлать эти миллiоны? Надо
быстро, пока молода. Когда состарѣешься и миллiоны ни къ чему.
— Ho вы мнѣ говорили, что обладаете
какою-то тайной.
— Да, говорила … Но я даже не знаю, какая это
тайна! — политическая или кинематографическая.
— О, мадмуазеллль, но это же двѣ большiя
разницы. Это совсѣмъ различные источники доходовъ, разная расцѣнка
гонораровъ и иной рискъ.
Леночку смѣшило, какъ Жанъ говорилъ ей
«мадмуазелль», совсѣмъ не по французски … Можетъ быть, онъ и, правда,
американецъ, только прикидывается французомъ, чтобы его не эксплоатировали.
— Какой же рискъ?
— Какъ какой? Вы мнѣ разсказывали про
кинематографическое общество «Атлантида», и вы мнѣ дали понять, что вы
подозрѣваете, что это общество политическое. Такъ, по крайней
мѣрѣ, вы слышали, какъ проговаривались вашъ дядя и ваша тетка.
Допустимъ, что это такъ. Противъ кого можетъ быть направлено это общество?
— Противъ совѣтской республики, — не
задумываясь, отвѣтила Леночка.
— Прекрасно. Но, если вы обладаете тайной, направленной
противъ совѣтовъ, вы обязаны сказать объ этомъ французской полицiи или
прямо въ полпредствѣ. Зто вашъ долгъ.
— Почему это мой долгъ?
— Да вы какая гражданка?
— Я васъ не понимаю.
— По паспорту?
— Паспортъ у меня совѣтскiй. Но это еще
ничего не доказываетъ.
Барышня, разсказывавшая про Муру, какъ показалось
Леночкѣ, что-то очень быстро собралась уходить. Она прошла мимо Леночки и
брезгливо обошла ее. Это задѣло Леночку, и она съ нѣкоторымъ
задоромъ и раздраженiемъ сказала:
— Кто и что мнѣ можетъ здѣсь во
Францiи сдѣлать? Я никому не обязана доносить.
— Положимъ … Разъ вы совѣтская гражданка, то вы и обязаны исполнять
всѣ совѣтскiе законы.
— Даже и во Францiи?
— Даже и во Францiи … Оставимъ этотъ
разговоръ. Здѣсь не мѣсто объ этомъ говорить. Все это пустяки. Я
сказалъ это, чтобы васъ подразнить. Все же это ерунда. Глупости. Тѣмъ
болѣе, что «Немезида», на которой ѣхали участники этого
кинематографическаго или политическаго общества, какъ мы знаемъ, погибла.
— Тетя не вѣритъ, что она погибла. И
Лидiя Петровна Парчевская тоже …
— Парчевская … Парчевская, — повторилъ въ какомъ-то
раздумьи Жанъ. — Я что-то слыхалъ эту фамилiю. Вы не можете мнѣ узнать,
гдѣ живетъ госпожа Парчевская?
— Я знаю. Она живетъ тамъ же, гдѣ и мы.
Я къ ней носила отъ тети книги.
— Ахъ, мнѣ точнаго адреса и не надо. Я
ее разыщу и такъ. А … скажите?.. Вы не слыхали про Пиксанова?
— Дядя что-то говорилъ … И Ферфаксовъ говорилъ
… Онъ живетъ далеко, въ деревнѣ.
— А вы не знаете, именно гдѣ?
— Нѣтъ, — сухо сказала Леночка. «Если
такъ будутъ выспрашивать у меня тайны, такъ что же я на нихъ заработаю? Этотъ
Жанъ никогда даже какимъ-нибудь персикомъ не угоститъ, а все выспрашиваетъ».
Она рѣшила ничего не говорить больше
Жану.
Жанъ, какъ бы самъ съ собою разговаривая илй
обращаясь къ безмолвной все это время Софи, сказалъ:
— Я слыхалъ про какое-то таинственное радiо …
Мнѣ говорили о немъ знакомые французы спецiалисты.
Жанъ всталъ первый. Счета были уплачены. Каждый
платилъ за себя. По товарищески. Они вышли. Жанъ подозвалъ такси и, простившись
съ Софи и Леночкой, помчался вверхъ по переулку.
— Пойдемъ на метро, — сказала Софи.
— Нѣтъ, — возьми такси. Ѣдемъ
домой. Я не хорошо себя чувствую. Мнѣ страшно.
Леночка дрожала внутреннею дрожью и была, какъ
въ лихорадкѣ. Она вдругъ поняла, что Сорбонна, этотъ прокуренный
ресторанъ, весь Парижъ, Жанъ, все это вздоръ, мифъ, сонное видѣнiе,
призракъ, все это только кажется. Ничего этого нѣтъ. Она «совѣтская»
и здѣсь она такъ же окружена, какъ въ совѣтской республикѣ
сыскомъ и шпiонажемъ. Здѣсь ее такъ же могутъ запросто «угробить», какъ
угробили ее мать.
— Кто этотъ Жанъ? — спросила Леночка.
— Кто?.. Очень хорошiй человѣкъ.
— Но гдѣ онъ служитъ?.. Гдѣ?..
Скажи мнѣ …
— Ахъ … Ну, какая ты глупая. Но почемъ я знаю?
Онъ хорошо зарабатываетъ. Ты видала какiе у него галстуки?.. И какая брошь!
— Да … Но откуда, откуда все это? — съ тоскою проговорила
Леночка. — Скорѣе возьми такси.
— L'ame slave, — снисходительно сказала Софи.
— Только ты платишь.
Она подозвала такси.
XVII.
Почти каждый день, вечеромъ, Лидiя Петровна
приходила къ Нордековой. Онѣ брали свои чашки съ чаемъ и по куску
хлѣба и уходили въ комнату Ольги Сергѣевны. У нихъ были «секреты».
Напрасная уловка. Мамочка ядовито улыбалась, дѣлала незамѣтный
знакъ Леночкѣ и обѣ неслышно придвигали стулья ближе къ двери и
прислушивались. Когда разговоры за дверью смолкали, онѣ начинали
гремѣть посудой.
Сначала говорила Лидiя Петровна и такъ тихо,
что даже и черезъ картонную дверь ничего не было слышно. Потомъ шуршали
разворачиваемыя газеты, принесенныя Парчевской, и Лидiя Петровна говорила:
— Я не знаю, почему въ нашихъ парижскихъ газетахъ
ничего этого не пишутъ.
Ольга Сергѣевна отвѣчала чуть
слышнымъ шопотомъ:
— Я справлялась у нашего милаго прокурора. Онъ
говоритъ, что все это нуждается въ тщательной провѣркѣ. Были
случаи, что сами большевики нарочно пускали такiе слухи о возстанiяхъ, чтобы
потомъ опровергнуть ихъ и, вызвавъ въ эмиграцiи сначала надежды, потомъ вызвать
депрессiю.
— Да, конечно, отъ нихъ можно всего ожидать.
Дьяволы какiе-то, — тихо сказала Лидiя Петровна. — Но вотъ видите, въ
Бѣлградской газетѣ опять пишутъ. Раньше было радiо «имени генерала
Кутепова» и это радiо три раза въ недѣлю говорило самыя контръ-революцiонныя
рѣчи. Потомъ оно замолкло. А теперь вотъ уже болыие мѣсяца немолчно
звучитъ совсѣмъ непонятное радiо. Играетъ оркестръ «Боже царя храни» и
поетъ прекрасный хоръ. Можете себѣ представить, какое это должно тамъ
производить впечатлѣнiе? И кто-то прекрасно разъясняетъ всю политику
большевиковъ. Вы помните, милая, какъ намъ Амарантовъ говорилъ, что главное
вниманiе у нихъ обращено на отчетливое исполненiе гимна и какъ-то особенно
ставили инструменты, чтобы по радiо можно было передавать.
— Вы думаете?..
— Кто знаетъ.
Обѣ замолчали. Леночка и мамочка
перетирали посуду.
— Какъ онѣ долго возятся съ посудой, —
сказала Ольга Сергѣевна съ досадой.
— Хотите, я пойду помогу имъ.
— Ахъ, что вы, милая.
— Сегодня я получила черезъ наше полковое объединенiе
Дальне-восточную газету. Тамъ еще болѣе поразительныя вещи пишутъ.
Помните, въ Кубанской Области было возстанiе и усмиряли его воздушнымъ флотомъ.
Такъ вотъ пишутъ, будто всѣ тѣ летчики, которые сбрасывали бомбы въ
возставшiя станицы, были найдены въ своихъ постеляхъ мертвыми и врачи
совѣтскiе не могли опредѣлить, отъ чего послѣдовала смерть. И
такая же участь постигла и тѣхъ летчиковъ, что усмиряли возстанiе въ
Туркестанѣ. Странно.
— Да, очень странно. А что пишутъ по этому
поводу въ Бѣлградской газетѣ?
— Будто еще какiя-то странныя явленiя
происходятъ съ милицейскими, усмиряющими уличные безпорядки. Ихъ вдругъ
одолѣваютъ слезы.
— Что же это возможно. Я читала, что въ Америкѣ
для борьбы съ бутлегерами употребляютъ особыя ручныя бомбы, пускающiя при
разрывѣ слезоточивые газы.
— Но откуда эти газы тамъ?
И опять замолчали, и слышно было только, какъ онѣ
переворачивали газетные листы, должно быть обѣ читали газеты.
Мамочка и Леночка убирали посуду въ шкапъ.
Совсѣмъ громко сказала Лидiя Петровна:
— Вы не обратили вниманiя, милая, что все это
пошло какъ разъ съ того времени, когда наши уѣхали сниматься.
— Ахъ, далъ бы Богъ. Вы знаете, что я уже
перестала вѣрить въ возможность какой бы то ни было борьбы.
— Женя, уѣзжая, сказалъ мнѣ: «ты о
насъ скоро и хорошо услышишь».
— Далъ бы Богъ. Я уже такъ молюсь
Владычицѣ и Покровительницѣ Русской земли. Наша она теперь у насъ
въ храмѣ … Казанская … Петербургская …
Лидiя Петровна стала прощаться.
— До завтра, милая.
— Мы еще увидимся въ церкви. Я приду рано. Будемъ
убирать цвѣтами икону.
— Такъ это красиво.
— Знаете, лучше всякихъ самоцвѣтныхъ
камней.
— Каждый дѣлаетъ, что можетъ. Намъ камни
то не по нашему бѣженскому карману. До свиданiя, милая.
Мамочка и Леночка едва успѣли убрать
стулья, на которыхъ сидѣли, какъ раскрылась дверь, и Парчевская, а за нею
Ольга Сергѣевна вышли изъ комнаты.
Леночка пошла проводить Парчевскую до калитки.
Подслушанное ею уже не радовало ее, но
тяготило страшною тайною, за которую можно отвѣтить и поплатиться. Ей
было страшно за Парчевскую.
— Вы не боитесь такъ одна? — спросила она.
— Что вы, Леночка, во Францiи то! Я всегда
одна хожу.
— Что же что во Францiи, — сказала печально Леночка.
— А Кутеповъ?
— Ну я вѣдь не Кутеповъ. Какой во
мнѣ интересъ для большевиковъ.
Парчевская бодро зашагала no rue de la Gare.
ХVШ.
Въ это воскресенье какъ-то особенно хорошо
было молиться въ ихъ скромномъ храмѣ. Ольга Сергѣевна долго стояла
на колѣняхъ передъ убраннымъ бѣлыми и желтыми ромашками образомъ и
молила о чудѣ. Она вѣрила, что Святая Дѣва, прекрасная не земною,
красотою, ея родная «Казанская» пошлетъ ей это чудо просто и не замѣтно.
Другiе скажутъ: «случай», но она будетъ знать, что это вымоленное ею чудо.
День былъ жаркiй и солнечный. Природа сiяла.
Маленькiй ихъ тупичокъ съ жидкими палисадниками пестрѣлъ цвѣтами.
Въ праздничномъ и радостномъ настроенiи Ольга Сергѣевна вернулась домой.
Мамочка вынесла старое просиженное соломенное кресло изъ своей комнаты и
сидѣла въ немъ въ палисадникѣ. Леночка возилась у газовой плиты.
Семейство Боннейлей съ утра куда-то уѣхало. Софи Земпель была у
окошка-балкона. Топси растянулась у ногъ мамочки. Она повиляла хвостомъ
навстрѣчу Ольга Сергѣевнѣ, но не встала. Очень уже хорошо
было лежать на пригрѣтомъ солнцемъ пескѣ.
Ольга Сергѣевна сѣла на каменныя ступеньки
крыльца и благоговѣйно, отламывая маленькими кусочками и стараясь не уронить
крошекъ на землю, ѣла принесенную ею просвиру.
Мамочка смотрѣла на нее съ иронической
усмѣшкой. Эта усмѣшка — ее старалась не замѣчать Ольга
Сергѣевна — раздражала ее. Мамочка это чувствовала. Она думала: «сама я
ее учила когда-то этому: вотъ вѣдь дура-то пѣтая была!
Вѣрила! … Чему тутъ вѣрить? Все теперь наукой объяснено, и ничего
ни святого, ни страшнаго нѣтъ. Докторъ лучше здоровье пошлетъ, чѣмъ
всѣ эти просвирки». Она наслаждалась, видя, какъ ея дочь краснѣетъ
подъ ея взглядомъ.
— Ты бы, Леля, кусочекъ и Топси дала.
Ольга Сергѣевна не отвѣчала. Она
старалась скорѣе доѣсть просвиру.
— Ничего что священая. И песъ вѣдь Божiя
тварь.
— He кощунствуйте, мама, — съ раздраженiемъ
сказала Ольга Сергѣевна. — Грѣхъ это большой.
Она встала со ступеньки и хотѣла (войти)
въ домъ. Но въ это время стукнула калитка ихъ переулка. Ольга Сергѣевна
оглянулась на стукъ. Какой-то молодой высокiй человѣкъ въ лѣтнемъ
сѣромъ костюмѣ и новой модной шляпѣ съ широкими полями
входилъ въ ихъ тупикъ. Было въ этомъ элегантномъ человѣкѣ что-то
знакомое. Онъ увидалъ Ольгу Сергѣевну и, снявъ шляпу, низко и церемонио
поклонился.
— Тетя, — крикнула сверху Леночка. — Михако
кланяется совсѣмъ какъ на картинкѣ котъ въ сапогахъ кланяется
маркизу де Карабасъ.
Ольга Сергѣевна сейчасъ же узнала князя
Ардаганскаго. Ей показалось, что князь выросъ за это время и сильно
загорѣлъ красивымъ бронзовымъ загаромъ, какимъ загораютъ на горномъ
солнцѣ жители горъ и летчики.
Но … приходъ сюда Ардаганскаго, одного изъ членовъ
кинематографическаго общества «Атлантида», знаменовалъ, что «Немезида» не
погибла и, значитъ, ея мужъ и сынъ живы.
Чудо, котораго она ждала и въ которое она
вѣрила, совершилось. И не въ силахъ себя сдерживать, она, широко
улыбаясь, бѣгомъ побѣжала къ калиткѣ.
He думая ни о чемъ, она крикнула:
— Князь, вы живы?..
— Какъ видите.
— А «Немезида»?
— И не думала тонуть.
Князь Ардаганскiй былъ очень смущенъ. Три дня
тому назадъ, когда замѣнившiй Ранцева въ должности замѣстителя капитана
Немо полковникъ Арановъ отправлялъ его въ Парижъ для сообщенiя семьямъ, что ихъ
главы живы, онъ говорилъ, какъ всегда невнятно и отрывисто. Про Аранова среди
офицеровъ ходилъ анекдотъ, что онъ такъ ушелъ въ свои изобрѣтенiя и математическiя
выкладки, что забылъ Русскiй языкъ и умѣетъ говоритъ только два слова:
«да, конечно». Арановъ говорилъ князю, что его выбрали, какъ самаго молодого, а
потому наименѣе примѣтнаго въ Парижской толпѣ. Его
обязанность посѣтить всѣ семьи, и всюду засвидѣтельствовать,
что всѣ живы и здоровы и просили кланяться. — «Но меня разспрашивать
будутъ»? — сказалъ князь. Арановъ, какъ и всегда, помолчалъ. Офицеры
разсказывали, что въ это время онъ высчитываетъ кубическiй корень изъ
восьмизначнаго числа. — «Да, конечно», наконецъ, сказалъ онъ. — «Что же
мнѣ говорить»? — «Ничего не говорите». — «Но это неудобно … Тамъ дамы» …
Этого Арановъ совсѣмъ не понималъ и, когда князь пояснилъ ему все
неудобство молчанiя, когда васъ спрашиваютъ дамы, Арановъ послѣ долгой
паузы сказалъ: — «да, конечно» … И потомъ добавилъ: — «Еще тутъ, можетъ быть …
Письма тамъ какiя … Такъ никакихъ чтобы писемъ» … Трудная была задача. Ардаганскiй
хотѣлъ было отказаться. Но отказаться летѣть! … Летѣть!! Одно это уже какъ прельщало
его, летѣть въ Парижъ, гдѣ была его мать, гдѣ была та, кого
онъ полюбилъ первою и такою чистою, почти неосознанною любовью, больше въ мечтахъ,
чѣмъ сердцемъ, было выше его силъ, и онъ не отказался. Онъ все-таки высказалъ
свои затрудненiя Аранову. Тотъ криво усмѣхнулся, потомъ сказалъ: — «Ну,
врите тамъ что-нибудь …, Впрочемъ, можете и правду говорить. Все равно вамъ
никто не повѣритъ». Получивъ приказанiе, деньги, указанiе, что онъ отнюдь
не долженъ носить ихъ «Атлантидской» формы, что вобще то «Немезида» для
всѣхъ погибла, что онъ долженъ очень хорошо одѣться и походить возможно
болѣе на француза, — князь же кончилъ французскiй колледжъ, — что
нигдѣ онъ не долженъ задерживаться, промелькнуть метеоромъ по всѣмъ
домамъ, успокоить семьи, исполнить еще два, три порученiя и сейчасъ же
летѣть обратно, князь былъ отпущенъ изъ ангара полковника Аранова.
Когда въ лагерѣ стало извѣстно,
куда и зачѣмъ летитъ князь, къ нему присталъ Мишель Строговъ. Онъ просилъ,
чтобы князь передалъ его двоюродной сестрѣ, Леночкѣ Зобонецкой,
совсѣмъ маленькую записочку.
— «Вы понимаете, Михако, это дѣло
любовное. Мнѣ очень надо ее успокоить и никто, кромѣ насъ двоихъ не
долженъ этого знать».
Передача записки нарушала инструкцiи,
полученныя отъ Аранова княземъ. Но князю было очень трудно отказать въ этомъ
пустякѣ Мишелю. Очень ужъ его просилъ объ этомъ Мишель. Уже очень, — такъ
казалось доброму князю, — сердца то ихъ бились созвучно. Князю было,
кромѣ всего этого, безконечно жаль Мишеля Строгова. Его отставленiе отъ
полета съ отцомъ казалось ему чрезвычайною жестокостью и несправедливостью со
стороны этого «педанта» Ранцева. Михако принадлежалъ къ молодому
поколѣнiю, выросшему и воспитавшемуся въ послѣвоенное время, когда
въ обществѣ произошелъ нѣкоторый моральный сдвигъ, то, что называлось:
«переоцѣнка цѣнностей». Точность въ исполненiи приказанiя или порученiя
стала относительной, какъ стала относительной и подверглась сомнѣнiю
самая честность. Молодежь, даже такая прекрасная, какою былъ князь Ардаганскiй,
стала «разсуждать». Въ полученныя отъ старшихъ приказанiя она вносила поправки,
считая себя умнѣе стариковъ. Въ этой молодежи была и еще одна черта.
Испытавъ въ жизни много видѣвъ въ самые нѣжные годы ея суровость,
она какъ-то размякла и иногда, особенно когда ея интересы не были затронуты,
она не умѣла настойчиво отказать.
Изъ старшихъ обитателей лагеря никто ни о
чемъ-не просилъ Ардаганскаго. Фирсъ хотѣлъ было написать «цидулю»
паннѣ Зосѣ, но, когда князь несмѣло сказалъ, что онъ не
имѣетъ права передавать никакихъ писемъ, Фирсъ махнулъ безпечно рукой и
сказалъ: — «Ну, нельзя, такъ и нельзя. Передайте, ваше сiятельство,
Зоськѣ, что я по прежнему ей вѣренъ, болѣе потому, что тутъ и
измѣнить то ей не съ кѣмъ. Никакой даже чернокожей обезьяны
дѣвичьяго рода тутъ нѣтъ. Такъ и пере-дайте, чтобы значитъ не
безпокоилась. А разыскать ее можете черезъ госпожу полковницу Ферфаксову.
Онѣ обѣщали о Зоськѣ позаботиться, чтобы не путалась съ
кѣмъ не слѣдуетъ» … Старый Нифонтъ Ивановичъ просилъ, и очень
трогательно, передать его поклоны генеральшѣ, полковницѣ и
барышнѣ. «Топси пожмите лапку, скажите, чтобы не скулила. Помнитъ ее
старый дѣдушка».
Все это было легко и просто тамъ, на
островѣ Россiйскомъ, но какъ оказался онъ противъ глубокихъ, полныхъ
вѣры и печали глазъ Нордековой, какъ увидалъ маленькiе, сверлящiе
буравчиками глазки Неонилы Львовны, почувствовалъ бѣдный Михако, что его
дипломатическiя способности очень невысокаго сорта.. «Лучше всего говорить
правду», — подумалъ онъ, — «не всю, конечно, правду. И отмалчиваться, а
главное, поскорѣе уйти. Это не очень любезно, ну да поймутъ же и
простятъ».
Сверху сбѣжала Леночка. Изъ окна комнаты
Мишеля Строгова смотрѣла какая-то молодая брюнетка. Князь подозрительно
покосился на нее.
— He бойтесь, — сказала Ольга Сергѣевна,
подмѣтившая его взглядъ, — это у насъ новая жилица. Она француженка,
ничего по Русски не понимаетъ. Ну, какъ же они? Какъ мы наволновались по васъ!
Панихиды даже служили. Ну, говорите … Только всю правду. Это вѣрно,
всѣ живы и здоровы?
— Снимаетесь, — протянула, насмѣшливо
улыбаясь, Неонила Львовна. — А не секретъ, сюжетъ вашей необычайной фильмы?
— А кто у васъ «старъ»? — спросила Леночка.
Вопросы сыпались, и это было хорошо для Ардаганскаго. Онъ могъ на нихъ не
отвѣчать.
— Навѣрно они американку какую-нибудь
взяли … Патрiоты, — протянула мамочка.
— Пойдемте, пойдемте ко мнѣ, — звала
Ольга Сергѣевна, — вы мнѣ все скажете. Что Шура? Все такимъ же
дичкомъ? А Георгiй Дмитрiевичъ, не скучаетъ?
Въ комнатѣ еще былъ утреннiй
безпорядокъ. Ольга Сергѣевна не успѣла прибрать ее. Она не
замѣтила этого. Набросила одѣяло на постель и сѣла
подлѣ смятой подушки.
— Князь, — сказала она, — не томите меня. Мы
до-гадываемся. Мы знаемъ, что это не кинематографъ. Скажите мнѣ … Я
никому ничего не скажу. Я же понимаю, какая это опасная тайна.
— Ольга Сергѣевна, — съ чувствомъ
сказалъ князь, — я ничего не могу сказать. Я далъ честное слово никому ничего
не говорить. Я могу вамъ тоже честнымъ словомъ завѣрить, что Георгiй
Дмитрiевичъ и Шура въ добромъ здравiи.
— Гдѣ же они всѣ находятся?
Вѣдь не на этихъ же глупыхъ островахъ Галапагосъ?
— Этого, Ольга Сергѣевна, я никакъ не
могу сказать.
— Вы мнѣ не вѣрите?
— Нѣтъ, Ольга Сергѣевна, я вамъ
очень вѣрю, но я не могу, и не могу.
Князь страдалъ подъ выразительнымъ взглядомъ
прелестныхъ женскихъ глазъ. Безпорядокъ въ спальной смущалъ его. Ему было
неловко. Казалось, что онъ оскорбляетъ Ольгу Сергѣевну. Онъ чувствовалъ,
что, если сейчасъ не уйдетъ, то размягчится и разболтаетъ.
Ольга Сергѣевна поняла его душевное
состоянiе и ей стало жалъ Ардаганскаго.
— Когда же вы уѣхали оттуда?
— Третьяго дня, — сказалъ Ардаганскiй.
— Третьяго дня, — воскликнула Ольга
Сергѣевна.
— Такъ недавно … Господи, да гдѣ же вы
всѣ находитесь?
Князь Ардаганскiй мучительно покраснѣлъ.
Онъ уже проболтался.
— Ольга Сергѣевна, простите меня. Я
сказалъ вамъ все, что могъ сказать. Сказалъ больше … Мнѣ надо спѣшить.
Парижъ такъ великъ … Мнѣ же кадо всѣхъ объѣхать.
— Да, я понимаю васъ, — съ печальнымъ упрекомъ
говорила Ольга Сергѣевна, — провожая князя.
— Уже, — сказала не безъ язвительности Неонила
Львовна..— He долго же нагостили у насъ, молодой человѣкъ.
Надо было передать незамѣтно
Леночкѣ письмо Мишеля. Леночка будто знала объ этомъ. Она побѣжала
за нерѣшительно шедшимъ по тупичку Ардаганскимъ.
— Князь, — крикнула она. — Михако! Ардаганскiй
остановился.
— Выйдемте за ворота, — тихо сказалъ онъ.
Изъ окна комнаты Мишеля Строгова, высунувшись
по поясъ, за ними слѣдила француженка брюнетка. У калитки стояла Ольга
Сергѣевна.
Ардаганскiй досталъ маленькiй конвертикъ и
передалъ его Леночкѣ.
— Мишель Строговъ просилъ вамъ передать, —
быстро сказалъ онъ и побѣжалъ внизъ по улицѣ, направляясь къ
станцiи желѣзной дороги.
Леночка взяла конвертъ и спрятала его на
груди. «Вотъ она, тайна, которой никто не знаетъ. Тайна, за которую можно
получить миллiоны», — подумала она.
Но обладанiе этой тайной не радовало ее. Оно
волновало ее и пугало.
XIX.
Это была правда, что князю Ардаганскому надо
было спѣшить. Онъ долженъ былъ въ одинъ день объѣхать весь Парижъ
съ пригородами. Всѣхъ застать, всѣмъ объяснить, что ихъ близкiе
живы и здоровы. Отъ ненужныхъ разспросовъ отбояриться. Все это требовало
времени. На другой день онъ долженъ былъ побывать у Пиксановыхъ. Это вышло,
такъ казалось князю, совсѣмъ необыкновеннымъ образомъ. Заканчивая свои немногословныя
объясненiя, Арановъ сказалъ: — «Ну, и потомъ вы съѣздите къ Пиксанову. Вы
знаете, гдѣ онъ живетъ?» — «Знаю», — сказалъ Ардаганскiй, — «но у
Пиксанова здѣсь нѣтъ никого близкихъ. Что передать ему прикажете»?
— «Да, конечно,» — сказалъ, глядя куда-то вдаль, Арановъ, — «никого близкихъ.
Но вы прiѣзжайте къ нему и тамъ уже узнаете зачѣмъ».
Князь Ардаганскiй былъ окончательно смущенъ.
Что же это за люди окружали капитана Немо? Они умѣли читать въ душахъ и
въ сердцахъ людей. Какь могъ Арановъ знать, что князь влюбленъ первою необыкновенною
любовью въ Галину Пиксанову. Это же было совсѣмъ необычайно. Князь никому
не говорилъ о своемъ чувствѣ.
Онъ нѣсколько разъ ѣздилъ по
порученiю Ранцева на Пиксановскую ферму. Потомъ ѣздилъ и самостоятельно.
Его, чистаго, воспитаннаго матерью, вдовою разстрѣляннаго большевиками
генерала, юношу необычайно потянуло къ Галинѣ. Все въ ней казалось такимъ
несовременнымъ. Въ ней онъ нашелъ «Тургеневскую» дѣвушку, о какой писали
тогда, что этотъ типъ вымеръ и не можетъ быть въ нынѣшней жизни. А
увидалъ ее, окруженную молодыми курочками и кроликами, услышалъ, какъ
нѣжными именами она звала свою мать и почувствовалъ, что газетные
писатели не правы и что «Тургеневская» дѣвушка въ самомъ привлекательномъ
ея видѣ можетъ быть и въ эмиграцiи. И съ первыхъ встрѣчъ полюбилъ
Галину такою чистою и большою любовью, какою можно любить только въ неполные девятнадцать
лѣтъ и когда жизнь видѣлъ со школьной скамьи, да изъ-подъ крыла
любящей и вѣрующей матери.
Съ букетомъ цвѣтовъ и большою коробкою
конфетъ — безсознательная вольность, дань времени, — князь Ардаганскiй шелъ
дождливымъ и хмурымъ туманнымъ утромъ на Пиксановскую ферму. Шесть километровъ,
однако, пѣшкомъ, подъ дождемъ и по грязному, размытому и
разъѣзженному деревенскому шоссе! Его сѣрый элегантный костюмъ съ
такою острою складкою на штанахъ, какую онъ видѣлъ у президента Думерга
въ кинематографѣ, гдѣ онъ былъ изображенъ вмѣстѣ съ
Брiаномъ на колонiальной выставкѣ, размокъ.
Сѣрыя тучи дымными клочьями низко
неслись надъ полями, гдѣ шла торопливая уборка пшеницы. Боялись, не
загнили бы хлѣба на корню.
Ардаганскiй миновалъ деревню съ узкими улицами
и съ желтыми высокими стѣнами садовъ и огородовъ, дошелъ до
завѣтной сѣрой калитки и дернулъ за ручку колокола.
— Qui est là?.. — сейчасъ же раздался
милый звонкiй голосокъ, и Галина — какъ она выросла за это недолгое время —
появилась въ черной рамѣ раскрытой
калитки. Мокрая прядь
свѣтлыхъ волосъ легла на лобъ. Розовое ситцевое платье мягко обтягивало
стройную ея дѣвичью фигурку.
— Идите скорѣе въ комнаты. Вы
совсѣмъ промокли. И платье ваше испортится. Смотрите, складку совсѣмъ
потеряли.
Серебряный смѣхъ сопровождалъ ея слова.
Отъ «президентской» складки ничего не
осталось. Штаны висѣли двумя канализацiонными трубами, какъ у Брiана на
томъ же снимкѣ. Совсѣмъ «демократическiе» стали штаны.
Галина пропустила князя въ калитку. — У-у ….
У-у …, съ высокой ноты на низкую закричала куда-то къ огороду Галина. Изъ-за
каменной ограды ей отвѣтило такое же мелодичное: «У-у ….У-у …» Чудной
музыкой казались эти звуки Ардаганскому.
Любовь Дмитрiевна съ двумя кочанами капусты,
прижатыми къ груди, вышла изъ огорода.
— Князь, — воскликнула она, — наконецъ-то! Ерема
будетъ такъ радъ. Онъ такъ васъ поджидалъ всѣ эти дни …
Пиксановъ, обтирая руки, запачканные землею,
вышелъ вслѣдъ за женою.
— Бож-же мой, да вы совсѣмъ промокли, —
сказалъ онъ. — Ну, слава Богу, наконецъ-то … Когда прилетѣли? …
Князь Ардаганскiй сдѣлалъ круглые глаза.
— Отъ меня, князь, не скрывайтесь. He нужно.
Можете быть вполнѣ откровеннымъ. He людямъ — Богу и Родинѣ служимъ.
Ну вы, — обратился онъ къ женѣ и дочери, — готовьте что-нибудь гостю,
покормитъ его надо. Гость надолго. Да и согрѣть. Водки, князь, не хотите?
Князь совсѣмъ смутился. Водки онъ
никогда не пилъ. Но отказаться ему, зачисленному въ гусарскiй полкъ
вольноопредѣляющимся, казалось немыслимымъ, Онъ промолчалъ.
— Пойдемте наверхъ. Тамъ теплѣе,
скорѣе просохнете. Галинка, къ тебѣ можно?
— Можно, папочка.
Какъ въ какое-то святое святыхъ поднимался
князь въ комнату Галины по древней съ выбитыми ступенями лѣстницѣ,
съ перилами, изъѣденными жучкомъ съ въѣвшейся пылью на
стѣнахъ. Пиксановъ толкнулъ узкую дверь, и они вошли въ маленькую
комнату. Почти всю переднюю стѣну занимало окно въ кружевныхъ занавѣскахъ.
Оно было открыто. Отцвѣтшая липа въ шарикахъ сѣмянъ протягивала къ
нему мокрыя, пахнущiя свѣжестью вѣтви. И вся комната была полна
этимъ точно дѣвичьимъ чистымъ ароматомъ. У стѣны стоялъ маленькiй
диванъ, служившiй Галинѣ постелью. На немъ лежали вышитыя шелковыя
подушки. На каменномъ полу подлѣ дивана былъ разостланъ коврикъ изъ
сѣраго кроличьяго нѣжнаго мѣха, подбитый сукномъ оливковаго
цвѣта. Въ углу у образовъ теплилась лампада. Вся стѣна надъ
диваномъ была увѣшана портретами, фотографiями, открытками, изображавшими
Государя, Императрицу и Царскую семью. И было видно, что это были «пенаты» Галины.
Они были украшены, гдѣ орденскою ленточкою, гдѣ свѣжими
цвѣтами. Весь образъ Галины былъ въ этой комнатѣ такъ просто, но и
такъ мило убранной. И этотъ образъ вполнѣ отвѣчалъ той несказанной
прелести идеальнаго о ней представленiя, какое было у князя Ардаганскаго.
— Садитесь, князь — указалъ на диванъ
Пиксановъ. Ардаганскiй взялъ стулъ и сѣлъ на самый кончикъ.
Онъ такъ боялся что-нибудь запачкать въ этой
чистенькой горенкѣ.
— Ну какъ хотите, — сказалъ Пиксановъ и плотно
усѣлся на постели дочери. — Когда вы летите обратно?
— Почемъ вы знате? … Вѣдь это такая
тайна … —округляя испуганные глаза съ упрекомъ сказалъ Ардаганскiй.
— А, да ну васъ, — съ грубоватой лаской сказалъ
Пиксановъ. — He отъ меня только эта тайна …. Я давно работаю съ вами. И до
послѣднихъ дней былъ въ непрерывной связи съ капитаномъ Немо и Ранцевымъ.
По радiо, конечно … Газеты то вамъ кто же читалъ?.. Парижскiя!.. А теперь не
могу … He смѣю … Мнѣ было сказано, что вы прилетите и чтобы я все
вамъ изложилъ, такъ какъ вы сейчасъ же и обратно должны летѣть. Я вчера
закрылъ радiо … По крайней мѣрѣ, на время. За мною слѣжка ….
Поняли?.. Сегодня должиы наѣхать жандармы … Меня предупредили объ этомъ …
Пожалуй, хорошо, что вы тутъ. Во-первыхъ, сами увидите, какъ обстоитъ теперь
дѣло здѣсь, а кромѣ того, вы съ цвѣтами и коробкой
конфетъ — хорошая декорацiя мирной и далекой отъ всякой конспирацiи жизни.
Поняли меня. Кѣмъ вы будете?.. Моимъ племянникомъ?.. Нѣтъ … Лучше …
Племянникомъ моей жены …. Отчего? … Зачѣмъ?.. Почему?.. Какая логика?..
Кто имъ донесъ?.. У большевиковъ, положимъ, большiя деньги и еще большая наглость
… Ну и, конечно, реставрацiей и реакцiей пугаютъ, а это такiе жупелы для
европейской демократiи, что при одномъ словѣ этомъ у нея ажъ глаза на
лобъ лѣзутъ.(Я давно зналъ, что рано или поздно Мандровская
улавливательная станцiя должна нащупать насъ. Она же такъ недалеко отъ насъ.
Надѣялся, что это будетъ поздно, а не рано … Кромѣ того, думалъ,
что даже она и знаетъ, догадывается, въ чемъ дѣло … Это же не биржевые
зайцы сговариваются, какъ лучше спекулировать … Вѣдь, если взять всю Францiю,
такъ всѣ шестьдесятъ миллiоновъ французскаго народа за насъ и съ нами и
только какихъ-нибудь, ну тамъ, нѣсколько сотъ тысячъ, вѣрятъ въ
этотъ проклятый коммунизмъ. A вотъ подите, шестьдесятъ миллiоновъ этихъ-то
нѣсколько сотъ тысячъ какъ еще боятся … Коммунисты, гдѣ деньгами,
гдѣ жидовскимъ окрикомъ и нахрапомъ добиваются своего. Теперь вотъ пактъ
о ненападенiи придумали … Пактъ, слово-то какое глупое! … Имъ мало акта … Пактъ
придумали … Чушь, конечно, ерунда, предательство, глупость … преступленiе …. А
вѣдь какъ клюнуло-то! … Разговариваютъ съ ними, подлецами, за столъ ихъ,
мазуриковъ, съ собою сажаютъ … Ну и вотъ подъ влiянiемъ пактовъ то этихъ самыхъ
наше «бѣлое» дѣло взято подъ подозрѣнiе. Сегодня долженъ быть
обыскъ въ деревнѣ. Гдѣ?.. Конечно, у меня … Я же одинъ здѣсь
Русскiй! … Ну и кромѣ того … Можетъ быть, слыхали: того типа, что убилъ
Великаго Князя въ 1918-мъ году, нашли мертвымъ въ мансардѣ. Никакихъ
слѣдовъ, чтобы насильственная смерть, однако, догадываются, чьихъ рукъ
дѣло. «Огонь поядающiй» коснулся его. Когда похитителей Кутепова искали,
такъ не нашли … Ну, а теперь всю эмиграцiю наизнанку переворачиваютъ … Поняли
меня?.. Такъ, когда вернетесь, скажите, что я принужденъ ради дѣла
молчать пока налетѣвшая на насъ гроза не утихнетъ … Поняли мое положенiе
… Вы когда летите обратно?
Князь Ардаганскiй послѣ всей этой
исповѣди понялъ, что скрывать что-нибудь безполезно: Пиксановъ зналъ
больше его. Онъ съ полнымъ довѣрiемъ отвѣтилъ:
— Я.завтра ѣду въ Шамониксъ отыскивать
въ горахъ нашъ аэропланъ.
— Такъ … такъ … Отличное дѣло. Богъ въ
помощь.
— Папочка, — раздался за дверью спокойный, но
настойчивый голосъ Галинки, — ѣдутъ.
Пиксановъ всталъ и открылъ дверь. Галина въ
платочкѣ и кофтушкѣ — совсѣмъ малороссiйская дѣвушка
крестьяночка, — съ корзинкой лукошкомъ на рукѣ, стояла у двери, на
площадкѣ лѣстницы.
— Такъ я побѣгу, папочка.
— Бѣги, родная, бѣги и Богъ да
поможетъ тебѣ. Пиксановъ нѣжнымъ, князь Ардаганскiй влюбленнымъ
взглядами проводили Галину до калитки. Она шмыгнула въ нее и исчезла за каменнымъ
заборомъ.
Во дворъ въѣзжали на гнѣдыхъ,
дымящихъ дождевымъ паромъ лошадяхъ жандармы въ черныхъ длинныхъ плащахъ и голубыхъ
съ чернымъ широкимъ околышемъ фуражкахъ кострюлькой. Съ ними былъ какой-то
штатскiй, ведшiй велосипедъ въ рукѣ. Жандармы слѣзли съ лошадей и
привязали ихъ у воротъ. Всѣ трое направились къ Пиксанову и князю,
ожидавшимъ ихъ у входа въ домъ.
Дождь пересталъ. Туманъ садился на землю.
XX.
Бригадиръ, съ узкимъ серебрянымъ галуномъ по
краю фуражки и съ расшитыми рукавами однобортнаго чернаго мундира подошелъ къ
Пиксанову.
— Colonel
Piksanoff ? …
— Oui,
monsieur le brigadier …
Бригадиръ покровительственно и важно, какъ
умѣютъ это дѣлать французы, протянулъ Пиксанову лѣвую руку въ
мокрой, рыжей перчаткѣ.
— Мы просимъ насъ извинить.. Что дѣлать
… Долгъ службы … Вы сами понимаете … Мы должны васъ побезпокоить немного … Вотъ
ордерокъ … Намъ надо осмотрѣть ваше жилище. Есть донесенiе, что у васъ
есть станцiя безпроволочнаго телеграфа.
Пиксановъ изобразилъ на своемъ безстрастномъ рыбьемъ
лицѣ крайнее удивленiе.
— Ты слышишь, Люба, — обратился онъ по-французски
къ стоявшей у открытой двери женѣ. — У насъ станцiя безпроволочнаго телеграфа.
Любовь Дмитрiевна пошла къ печкѣ, пожала
плечами и сказала красивымъ низкимъ голосомъ:
— Пусть посмотрятъ.
Незванные гости пошгли по комнатамъ. Домъ былъ
старый, мѣстами развалившiйся. Осмотрѣть его весь съ надворными
постройками, конюшней, сараями, курятниками, сѣновалами и дня не хватило
бы. Жандармы смотрѣли поверхностно, штатскiй, маленькiй кривоногiй человѣкъ
съ подшпиленными для велосипеда шпильками штанами, въ сѣрой рабочей
каскеткѣ блиномъ и въ распахнутой черной кожаной курткѣ поверхъ
пиджака всюду совалъ свой носъ и все допрашивалъ Пиксанова.
— Это пiанино?.. А зачѣмъ вамъ
пiанино?..
— Жена поетъ и играетъ. Зимою, знаете, скучно
безъ музыки.
— Но вы могли поставить радiо.
— Мы его не имѣемъ. Хлопотно очень.
Самимъ прiятнѣе, играешь и слушаешь, что хочешь, а не то, что даютъ …
Штатскiй заглянулъ подъ кровать, приподнялъ
«сомье», открывалъ шкапы. Бригадиръ и сопровождавшiй его молодой жандармъ
ходили безучастно. Бригадиръ подмигивалъ Пиксанову на старанiя штатскаго.
— Былъ бы телеграфъ, — сказалъ онъ, наконецъ,
— были бы мачты, антенны … Проволока, моторъ …. Ничего этого нигдѣ не
видно.
— Ахъ, оставьте, пожалуйста, — огрызнулся штатскiй,
— теперь это такъ усовершенствовано, что ничего и не надо. Ящикъ не больше
этого сундука. Вотъ и все. Что въ этомъ сундукѣ?
Пиксановъ поднялъ крышку.
— Грязное бѣлье, — сказалъ онъ.
— Хорошо-съ, — съ какимъ-то озлобленiемъ наскочилъ
штатскiй на Пиксанова, — а скажите мнѣ? … Вашъ патронъ? … Кто онъ такой?
— Инженеръ Долле.
— Что же онъ Русскiй?
— Да.
— Почему у него французское имя?
— Когда у васъ была такая же революцiя, какъ у
насъ теперь, и народъ казнилъ короля и истреблялъ дворянство, его предки
бѣжали въ Россiю.. Какъ мы теперь были принуждены бѣжать къ вамъ во
Францiю … Chassée croisée, знаете, такое вышло … Предки моего
патрона остались въ Россiи. Имъ при нашихъ императорахъ очень хорошо жилось. А
теперь … Пришла революцiя въ Россiю и имъ пришлось бѣжать … Обратно во Франдiю
… Отъ рабоче-крестьянской власти господъ большевиковъ.
— Это онъ тутъ арендовалъ въ лѣсу охоту?
— Да, онъ.
— Онъ охотился?
— Нѣтъ. Онъ снялъ охоту въ концѣ
сезона, охотиться не успѣлъ, а теперь до конца сентября охота запрещена.
— Онъ богатый человѣкъ?..
— Да … вѣроянтно …. Я не имѣю
обыкновенiя считать въ чужихъ карманахъ деньги.
— Ну, оставьте, право, — обратился снова къ
штатскому бригадиръ. — Сразу видно, вы введены въ заблужденiе, ничего тутъ и быть
не можетъ. У нихъ даже электрическаго освѣщенiя нѣтъ. Керосиновыя лампы
повсюду. Господинъ ancien combattant,
занимается куроводствомъ. Какiе тутъ могутъ быть радiо.
— Я знаю, что дѣлаю и вы обязаны
мнѣ помогать.
— Да развѣ я вамъ мѣшаю?
— Ну и дайте обо всемъ разспросить … Въ
лѣсу есть постройки?..
— Да, тамъ есть два дома лѣсниковъ и въ
глубинѣ лѣса развалина, должно быть стараго охотничьяго домика.
Жандармы знаютъ.
Бригадиръ подтвердилъ слова Пиксанова.
— Кто живетъ въ домахъ?
— Лѣсники французы. Въ развалинѣ
патронъ позволилъ поселиться одному старику монаху.
— Русскому?
— Да, Русскому.
— Это почему?
— Въ Россiи большевики уничтожили монастыри и
разогнали монаховъ. Многiе уѣхали въ Югославiю, въ Грецiю, на
Аѳонъ. Отецъ Ѳеодосiй прiѣхалъ съ офицерами въ Парижъ.
Дѣваться ему некуда. Ночевалъ на улицѣ … Подъ мостами … Патронъ его
и прiютилъ.
Штатскiй досталъ изъ-за пазухи большой кожаный
бумажиикъ, вынулъ изъ него карту, всю прочерченную пересѣкающимися
красными и черными линiями, долго разглядывалъ ее, разложивъ на письменномъ
столикѣ Любови Дмитрiевны и, наконецъ, сказалъ:
— Я хочу осмотрѣть лѣсъ. Наши
координаты сходятся въ лѣсу.
— Но, мосье Рибо … Конечно, это какъ вамъ
будетъ угодно … Но лѣсъ двадцать квадратныхъ километровъ. Его и въ
мѣсяцъ не осмотришь.
— Я хочу провѣрить эту развалину,
гдѣ Русскiй монахъ. Это мое право и обязанность.
— Я считаю долгомъ предупредить васъ, — продолжалъ
бригадиръ, — что въ лѣсу очень топко и грязно и вы тамъ на велосипедѣ
далеко не вездѣ проѣдете.
— Гдѣ надо я пройду пѣшкомъ, —
гордо сказалъ маленькiй человѣкъ и сталъ спускаться внизъ.
— Это ваша жена? А кто этотъ молодой
человѣкъ?
— Ея племянникъ.
Бригадиръ выразительно ткнулъ пальцемъ въ коробку
конфетъ и букетъ цвѣтовъ, лежавшiе на большомъ, кругломъ столѣ, и
сказалъ:
— Полноте, мосье Рибо, не въ этой же коробкѣ
радiо-станцiя.
Рибо зашагалъ къ велосипеду. Жандармы приложились
ладонями къ прямымъ козырькамъ фуражекъ.
— Бонжуръ мосье, мадамъ … Стали отвязывать
лошадей.
Туманъ низко стоялъ надъ полями. Все кругомъ
было сѣро и уныло, какъ бываетъ въ хмурый день позднею осенью.
XXI.
Обѣдали втроемъ. Князь Ардаганскiй былъ
взволнованъ. Онъ безпокоился о Галинѣ и не могъ этого скрыть. Его раздражало,
что родители Галины не придавали значенiя ея долгому отсутствiю.
— Куда же пошла Галина? — наконедъ, спросилъ, мѣняясь
въ лицѣ, дрожащимъ голосомъ князь.
— Въ лѣсъ. По грибы, — просто сказала
Любовь Димитрiевна.
Пиксановъ закурилъ папиросу.
— Слушайте, князь … Неужели не догадались? Галина
пошла къ отцу Ѳеодосiю … Надо же предупредить, чтобы старика не застали
врасплохъ. Тамъ все-таки и прибрать кое-что надо. Поняли?.. Главное-то я давно
припряталъ. Газеты кое-что проболтали про радiо. Сидите съ нами спокойно.
Дождемся Галочки и послушаемъ, что она намъ разскажетъ про визитъ шпика. Имъ
вѣдь интересно, чтобы не было станцiй, передающихъ биржевые секреты … Все
служба золотому тельцу. Ну, а мы … Жандармы то, можетъ быть, давно знали, что
мы тутъ дѣлаемъ, да и станцiя тоже, да не трогали. Пока не явился этотъ.
Рожа-то какая поганая! … По всему обличiю или коммунистъ, или купленный
большевицкимъ полпредствомъ … Хочетъ непремѣнно доискаться. Ну, да
увидимъ. Богъ не безъ милости.
Безконечно тянулся день. Въ другое время, при
другихъ обстоятельствахъ, какимъ бы счастiемъ былъ для князя этотъ день! Какъ
досыта наговорился бы онъ съ милой дѣвочкой, разспросилъ бы ее обо всемъ!
Теперь всѣ молчали. Князя усадили у плиты сущиться. Любовь Димитрiевна пошла
чистить курятникъ. Князь сорвался было съ кресла.
— Позвольте я вамъ помогу.
Любовь Димитрiевна улыбнулась снисходительно ласковой
улыбкой.
— Ну, куда вамъ … Въ вашемъ-то костюмѣ.
Ботинки въ разъ загубите. Вы знаете, что … Пока что, снимайте-ка костюмъ, да
разгладьте его, я вамъ утюжокъ на фуръ поставлю. Ну, — уже въ дверяхъ сказала
она, — пока!..
Въ пятомъ часу, въ полутемной комнатѣ —
очень хмурый и тоскливый былъ день, — пили чай. Галины все не было.
— Ты не поѣдешь ей навстрѣчу? —
спросила Любовь Димитрiевна.
— He къ чему. Она навѣрно пойдетъ
напрямикъ лѣсомъ и мы только разминемся. Притомъ же неизвѣстно, что
тамъ эти господа нашли. Моя поѣздка наведетъ ихъ на новыя подозрѣнiя.
Она навѣрно ожидаетъ ихъ отъѣзда, чтобы допросить отца
Ѳеодосiя и разсказать намъ все обстоятельно. Ты же ее знаешь.
Время шло. Колоколъ на деревенской
колокольнѣ отбивалъ часы и получасы. Въ деревнѣ была тишина. Съ
желѣзнымъ скрежетомъ, показавшимся князю ужаснымъ, двѣ пары бѣлыхъ
громадныхъ воловъ протащили вальки по дорогѣ. Гдѣ-то далеко
прогудѣлъ поѣздъ. Туманъ становился гуще. Надвигался тихiй, сырой и
теплый вечеръ. Набухшiя дождемъ вѣтви липъ низко опустились къ дому.
Пѣтухи собрались подъ ними тѣсной стаей и стояли нахохлившись.
Начиналъ опять моросить мелкiй дождь. Сердце князя разрывалось отъ тоски и
безпокойства за Галину.
И какъ всегда, когда слишкомъ напряженно ожидаютъ,
совсѣмъ не въ ту минуту, когда ждали, уже въ полутьмѣ, вдругъ
скрипнула и открылась калитка, и Галина съ веселымъ смѣхомъ
пробѣжала черезъ дворъ.
Ея туфельки были облѣплены грязью. Въ
грязи были и стройныя, голыя ноги. Подолъ платья намокъ о траву, папоротникъ и
кусты. Лукошко на рукѣ было полно бѣлыхъ грибовъ. Лицо сiяло
радостью и счастьемъ исполненнаго долга. Голубые глаза сверкали и играли
огненными искорками, смѣхъ открывалъ милыя ямки на розовыхъ щекахъ.
— Мама!.. Папочка!.. Князь!.. — пробѣгая
по двору, крикнула она. — Все такъ отлично … Ну такъ отлично… Очень даже хорошо
все вышло. Лучше, право и не надо …
— Ты башмаки-то переодѣнь раньше …
Простудишься, — сказала Любовь Димитрiевна.
— Ну, мамулечка, — удивительно мило протянула
Галина. — Переодѣнусь послѣ, раньше все разскажу.
— Да вѣдь ты ничего еще и не ѣла.
— Ничего и не ѣла, — точно сама на себя
удивилась Галина.
— Ну такъ ѣшь раньше.
— Нѣтъ … Послѣ, папа … Это всегда
успѣю. Раньше все по порядку.
Она не безъ гордости поставила корзинку съ грибами
на столъ, сама сѣла подлѣ печки, гдѣ кипѣлъ и
свистѣлъ чайникъ, вдругъ вообразившiй себя заправскимъ самоваромъ,
протянула ножки къ огню и начала.
— Ну-съ … Вышла я, и бѣгомъ,
бѣгомъ, въ лѣсъ и къ отцу Ѳеодосiю. Заперто … Ну, да знаю я
его уловки. Стучу … Слышу, говоритъ: — «Господи, спаси Россiю» … Я ему сейчасъ:
«Коммунизмъ умретъ — Россiя не умретъ» … Ну и открылась мнѣ его келiйка.
Мы скоренько за уборку. Моторъ … Еле стащили … Ну и тяжелый!.. Въ лабораторiю,
гдѣ нѣмецкая обезьяна была. Работали, хоть въ кинематографъ насъ
снимай … Полъ заложили. Ковриками покрыли, травки набросали. Мачта была уже снята
… Мы ее на цѣлую версту отнесли въ лѣсъ и спрятали въ
папоротникахъ. Ни за что не найти! И только кончили, глядимъ — ѣдутъ. И
тотъ типъ съ ними … На велосипедѣ … Я въ лѣсъ и по грибы. Да какъ
долго же они были! Я цѣлое лукошко набрать успѣла. Наконецъ, слава
Богу, уѣхали. Я сейчасъ, мамочка, къ отцу Ѳеодосiю. Разспросить же
его надо. И какъ же онъ хорошо все устроилъ … Такой хитрый. Дверь, значитъ,
оставилъ открытой: входи, молъ, ничего запретнаго нѣтъ. Ну, тѣ и
входятъ … Видятъ иконы … Лампадки затеплены … Свѣчи зажжены у налоя,
книга раскрытая, лежитъ. Отецъ Ѳеодосiй ихъ монастырскимъ поклономъ
встрѣчаетъ, какъ самыхъ дорогихъ гостей. Жандармы шапки сняли, тотъ типъ
такъ въ шапкѣ и расхаживаетъ. Отецъ Ѳеодосiй, — онъ, мамочка, такъ
все это забавно разсказывалъ, — на своемъ французскомъ языкѣ и говоритъ
ему: — «снимите вашу каскеточку, тутъ домъ молитвы» … Снялъ … Ну что же, папа,
разсказывать, ты самъ знаешь, если не знать всего устройства, можно годъ
искать, ни до чего не доискаться. Однако, полѣзли наверхъ, ходили,
нюхали, смотрѣли сверху на лѣсъ. По деревьямъ глазами шарили … Тотъ
типъ все свою карту свѣрялъ, потомъ поѣхали къ лѣсникамъ. А я
скорѣе домой, къ вамъ, съ докладомъ. Вѣдь далеко, мамулечка, да и
дорога какая!.. Ужасъ …
Князь Ардаганскiй съ такимъ откровеннымъ восхищенiемъ
и обожанiемъ смотрѣлъ на Галину, что та смутилась.
Князя оставили ужинать. Да и поѣзда
раньше не было. Уже ночью, всею семьею вышли его проводить. Все время разговоръ
былъ о Галинѣ, объ удачно отбытомъ обыскѣ и всѣ жители фермы
казались героями, хотя, вотъ онъ — подлинный герой — шелъ вмѣстѣ съ
ними! Но Ардаганскiй ни слова не говорилъ о томъ, чта всего два дня тому назадъ
онъ на громадной вышинѣ мчался на аэропланѣ надъ Атлантическимъ
океаномъ, что страшный, совсѣмъ на земной, не похожiй холодъ забирался въ
ихъ особо приспособленную каюту, что днемъ лучи солнца слѣпили глаза, а
ночью по-иному, чѣмъ привыкъ видѣть ихъ князь, свѣтили
звѣзды и безшумно несся аэропланъ надъ землею, чтобы спуститься въ
дикомъ, не посѣщаемомъ людьми мѣстѣ. По своей скромности
князь объ этомъ не разсказывалъ, да ему и запрещено было говорить, какъ онъ
попалъ во Францiю.
Дождь пересталъ. Прояснило, луна молодякъ проткнулась
сквозь тучи. Разстались за деревней и князь, подобравъ на этотъ разъ концы
своихъ штановъ, бодро зашагалъ на маленькую глухую станцiю.
И когда вдругъ изъ ночной тьмы показался
пустой поѣздъ съ ярко освѣщенными вагонами, и князь сѣлъ въ
него и помчался черезъ ночь, онъ все думалъ о томъ, что онъ сейчасъ
видѣлъ и слышалъ.
«Да, она героиня» — думалъ онъ. — «Настоящая
героиня … Тургеневская дѣвушка … Какъ она все сдѣлала-то. И
лѣса не боялась …»
Надъ Парижемъ желтое свѣтилось зарево.
Тамъ, гдѣ была колонiальная выставка, ярко отражались въ небѣ огни,
и лучи прожекторовъ свѣтили въ пространство. Князь сидѣлъ, какъ
очарованный, смотрѣлъ въ окно и все думалъ: «она героиня … героиня моего
романа».
XXII.
Какъ и всегда, въ десятомъ часу утра
почтальонъ на велосипедѣ бодро подкатилъ къ калиткѣ Пиксановской
фермы и передалъ выбѣжавшей на его звонокъ Галинѣ газету.
Пиксановъ сидѣлъ дома. Дожди
мѣшали работать въ огородѣ. Онъ развернулъ газету и сталъ ее
читать. Всякая дребедень была теперь въ газетахъ. О главномъ, о Русскомъ, о
томъ большомъ и больномъ, что заполняло думы всѣхъ читателей и волновало
ихъ, или нельзя было писать, или не хотѣли писать и наполняли газетные
листы разсказами о Джекѣ Куганѣ, о женахъ — сколько ихъ! — Шарло Чаплина,
о его котелкѣ и башмакахъ … Писали о сумасбродствахъ богатыхъ людей, о миллiонахъ,
завѣщанныхъ любимой кошкѣ или попугаю. И заголовки газетъ были
такiе, что можно было подумать, что выходили газеты въ сумасшедшемъ домѣ.
«Женщина, оказавшаяся мужчиной» … «Полковникъ, оказавшiйся женщиной» … «Подо
льдомъ къ сѣверному полюсу» …
Разсѣянно скользя по этимъ пустымъ
извѣстiямъ, Пиксановъ увидалъ заголовокъ жирнымъ шрифтомъ: «Таинственный
аэропланъ». Онъ сталъ читать.
…«Во
французскихъ Альпахъ, въ районѣ Шамоникса, туристы обнаружили на
высотѣ 3.500 метровъ аэропланъ. Ни въ самомъ аппаратѣ, ни вокругъ
него туристы не нашли летчиковъ, несмотря на усердные поиски. На снѣгу около
аэроплана видны были большiя пятна, которыя въ началѣ показались
туристамъ кровью.
«При ближайшемъ разслѣдованiи, однако,
оказалось, что пятна, на снѣгу были сдѣланы какою-то жидкостью и
имѣли форму правильныхъ круговъ: повидимому, въ этомъ мѣстѣ
кто-то указалъ авiатору куда спуститься.
«Какъ попалъ аэропланъ въ эти мѣста и
куда дѣвался летчикъ, — представляется весьма загадочнымъ.
«Жандармерiя производитъ разслѣдованiе»
…
Пиксановъ опустилъ газету. «А вѣдь это
ихъ аэропланъ», — подумалъ онъ. «Успѣетъ ли милый князь и тѣ, кто
прилетѣли съ нимъ, благополучно проскочить на этотъ аэропланъ и
улетѣть, куда ему надо. И тамъ уже, какъ и у меня, жандармерiя впуталась
въ ихъ тайное дѣло и мѣшаетъ планомѣрной работѣ».
«Да, ужасно … Зачѣмъ, почему, отчего,
какая логика въ томъ, что капиталистическiя страны Европы такъ усиленно
помогаютъ коммунистамъ разрушать ихъ же благосостоянiе и такъ же старательно
мѣшаютъ тѣмъ, кто борется за право и законъ? … И всюду шныряютъ
теперь эти скучающiе, снобирующiе туристы, и, кажется, нѣтъ теперь такой
точки на земномъ шарѣ, куда не проникъ бы какой-нибудь джентльменъ въ
дорогомъ «пулловерѣ», въ гетрахъ и вязаной шапкѣ и не остановился
съ идiотской улыбкой разсматривать то, что такъ тщательно и съ такимъ рискомъ
для жизни хотѣли отъ него скрыть. И какъ страшно, что и тамъ … Тоже …
Какой-нибудь умирающiй отъ скуки, задавленный своими миллiонами американецъ, не
наткнется въ своихъ плаванiяхъ на моторной яхтѣ на тотъ островъ и не завопитъ о немъ въ газетахъ всего мiра … Ужасно …
Эти мнѣ снобы, бездѣльники, сами навязывающiе на собственную шею
петлю коммунистической веревки!»..
Пиксановъ закурилъ дешевую папиросу и продолжалъ
въ тяжкомъ раздумьи листать газету. Co двора доносилось кудахтанье куръ и
звонкiй голосъ Галины.
— Мамулечка, сегодня молодыя курочки уже четвертое
яйцо несутъ и все сто шестой номеръ …
«Да здѣсь жизнь», — со вздохомъ подумалъ
Пиксановъ, — «тамъ противодѣйствiе жизни …. Ибо безъ Бога … ибо противъ
Бога» …
Онъ углубился въ газету.
«Англiйская свадьба въ Русской церкви» … Тоже снобъ
какой-нибудь, ради моды сунулся въ Русскую церковь … Или наша какая-нибудь
бѣдная дѣвушка продалась за англiйскiе фунты … «Вчера въ 9 1/2
часовъ вечера въ Русской церкви состоялось по православному обряду
бракосочетанiе капитана англiйской службы Джемса Холливеля съ миссъ Анастасiей
Гербертъ. Бракосочетакiе совершалъ …» На свадьбѣ, однако, не было никого
Русскаго. Свадьба была чисто англiйская … Но почему православная? «Тоже
снобизмъ какой-нибудь, въ родѣ путешествiя къ сѣверному полюсу на
подводной лодкѣ» …
«Чествованiе» … Ну, конечно! … Мы безъ
чествованiй и праздниковъ обойтись никакъ не можемъ, хотя уже чего чествовать и
что праздновать, когда я, гвардейскiй полковникъ, принужденъ здѣсь куръ
разводить» …
Пиксановъ выплюнулъ недокуренную папиросу,
швырнулъ газету на полъ и вышелъ изъ полутемной комнаты на дворъ. Яркiй солнечный
свѣтъ его ослѣпилъ. Голубое небо было бездонно. На крышѣ
ворковали, радуясь долгожданному солнцу голуби, воробьи, чирикали у навознаго
ларя. Изъ курятника слышались звуки скребковъ. Любовь Димитрiевна съ Галиной
чистили птичникъ.
Пиксановъ посмотрѣлъ на небо. «Можетъ
бытъ, князь и летитъ, и все обошлось благополучно. Славный юноша … И, видимо,
сраженъ моей баловницей. Ну что жъ, вотъ придемъ въ Россiю, тогда и мы будемъ
чествовать и праздновать, уже на законномъ основанiи и по праву, каждый въ
мѣрѣ совершеннаго … А кто ничего? Ну ничего и не получитъ.. Ничего
и есть ничего. И ноль всегда ноль, какъ его ни чествуй и ни величай» …
XXIII.
Получивъ отъ князя Ардаганскаго голубенькiй пакетикъ
съ посланiемъ Мишеля Строгова, Леночка не ощутила никакой радости. Тревога
охватила ея сердце. Что въ этомъ посланiи? Какая тайна? … Сорбонна за эти
мѣсяцы кое-чему научила Леночку. Она показала ей, что миллiоны легко
дѣлаютъ въ кинематографахъ, да въ романахъ, въ жизни совсѣмъ не
такъ это просто. Если это кинематографическая тайна, какъ ее использовать? …
Страшно подумать, если это тайна политическая. Михако былъ замкнутъ и молчаливъ
… На его лицѣ было такое выраженiе, какое Леночка видала въ кинематографахъ
на лицахъ героевъ или преступниковъ. Послѣ разговоровъ съ Жаномъ Леночка
поняла, что Парижъ съ его «ажанами» вовсе не безопасное мѣсто и
здѣсь, если тайна касается совѣтской республики, можно такъ же
влипнуть, какъ и въ какомъ-нибудь Троцкѣ.
Первымъ движенiемъ Леночки было вскрыть и
сейчасъ же прочитать, что пишетъ ей Мишель Строговъ. Но она чувствовала себя
подъ наблюденiемъ. Тетка стояла у калитки, Софи все глядѣла въ окно.
Леночка зашла за уголъ дома и тамъ спрятала конвертъ у себя на груди.
Надо было идти домой завтракать. Леночка
надѣла на лицо привычную маску сдержанности. Въ совѣтской
республикѣ безъ такой маски можно было пропасть. Она умѣла ее
носить, и съ нею на лицѣ пошла къ дому небрежной вихляющей походкой,
какою ходятъ парижскiя манекенши и которую Леночка изучила въ кинематографѣ.
— Что вы тамъ съ княземъ шептались? — съ ласковою
ворчливостью сказала Неонила Львовна. — He пара онъ тебѣ. Гляди какъ
вырядился! Все новенькое. Видать — въ хорошемъ магазинѣ куплено, и все у
него тайна да тайна, какiе подумаешь, секретники выискались. Конспираторы!
— Спрашивала о Мишелечкѣ, — съ наивнымъ
видомъ сказала Леночка.
— Можетъ быть, онъ тебѣ что про Шуру
подробнѣе сказалъ, — съ волненiемъ въ голосѣ сказала Ольга Сергѣевна.
— Ничего особеннаго … Живъ … Здоровъ … Снимается
… Михако, правда, сталъ очень уже въ секреты играть.
— Да, — протянула Неонила Львовна, — былъ милый
человѣкъ, а теперь просто фификусъ какой-то.
Послѣ завтрака Леночка позвала Топси.
— Я, тетя, пойду немного погулять съ собакой.
На рыночной площади были скамейки. Леночка
рѣшила тамъ прочесть посланiе Мишеля. Когда она была уже на площади ее
догнала Софи.
— Что это за прекрасный человѣкъ былъ у
васъ? — спросила Софи.
«Софи не помѣшаетъ, — подумала Леночка.
— «Письмо написано по Русски. Она ничего не разберетъ».
— Это былъ молодой князь Ардаганскiй.
Хотя совѣтская школа второй ступени и
тщательно вытравила изъ головы Леночки понятiе о почетности княжескаго званiя,
она не безъ гордости назвала Ардаганскаго княземъ.
— Это твой «ами»?
Леночка неопредѣленно подернула плечомъ,
понимай, молъ, какъ знаешь, отъ такого «ами» не хотѣлось отказываться.
— Давай, сядемъ. Мнѣ надо прочитать одно
письмецо. Ты позволишь?
— Ахъ, сдѣлай милость.
Они сѣли на желтую исщербленную
скамейку. По другую сторону ея сидѣлъ какой-то старикъ. Въ немъ ничего не
было подозрительнаго. Леночка вынула съ груди конвертъ и осторожно ноготкомъ
вскрыла его. Софи нарочно стала смотрѣть въ сторону.
Крупнымъ корявымъ почеркомъ Мишеля — онъ совсѣмъ
отвыкъ писать — было начертано:
«Леночка, дорогая, умоляю васъ, выручайте
всѣхъ насъ изъ бѣды. Мы попали въ грязную исторiю. Торопитесь …
Можетъ быть, вы извлечете изъ моего сообщенiя и пользу. He знаю. Это самая
обыкновенная бѣлогвардейская авантюра. Стопроцентная контръ-революцiя.
Никакого общества «Атлантида» нѣтъ. Есть солдатчина, удушливые газы,
аэропланы и пулеметы, направленные противъ большевиковъ цѣлаго
свѣта. Вы понимаете, какое это безумiе. Опять война. Насъ надо разоблачить.
He знаю, гдѣ, въ Лигѣ Нацiй или прямо у большевиковъ, гдѣ
больше дадутъ. Спасайте скорѣе, но и не продешевите … Наша военная база
находится на вулканическомъ острввѣ, лежащемъ на 2°10'11" южной широты
и 22°32'18" западной долготы отъ Гринвича. Это очень важныя
свѣдѣнiя. Боюсь, что вы не сумѣете ихъ использовать. Храните
ихъ тщательно» …
Записка была безъ подписи. Мишель зналъ, что
дѣлалъ. Леночка опустила руки съ запиской на колѣни и
смотрѣла вдаль. Она была такъ поражена, что ничего не видѣла. Она
не видѣла, что Софи внимательно разглядывала записку.
«Тайна была политическая. Самъ Мишель Строговъ
признавалъ ея значенiе и опасность. Что дѣлать? … Что дѣлать? …»
Леночка машинально спрятала записку на груди и
тяжело вздохнула.
— Что-нибудь непрiятное? — участливо спросила
Софи.
— Ахъ … Нѣтъ …
Леночка поднялась.
— Пойдемъ домой.
Софи послушно встала и пошла съ подругой къ
дому. Обѣ молчали. Холодные токи бѣжали по жиламъ Леночки.
«Донести? … Сказать кому-то объ этомъ заговорѣ, объ этой
«авантюрѣ»? Доносъ ее не страшилъ и не смущалъ. Она не думала, какiя
могутъ быть послѣдствiя доноса для ея дяди и Мишеля. Она усвоила со
школьной скамьи, что доносить не стыдно, не преступно, не гадко. Каждый обязанъ
доносить. Ее смущало другое … Куда донести? А какъ съ этой запиской она сама
попадется? Тутъ дѣло шло уже не о миллiонахъ, которые кто и за что ей
дастъ? … He большевики же? Она знала, какъ и чѣмъ платили большевики
доносчикамъ. Она знала и ихъ грубость и ихъ жестокость, и она боялась ихъ. Она
теперь знала, что они были повсюду. И Жанъ былъ большевикъ. Надо ихъ
остерегаться. Могутъ быть пытки, можетъ быть смерть.
Леночка не помнила, какъ она дошла до дома и простилась
съ Софи.
— У меня голова болитъ, — жалобно сказала она
подругѣ.
Она воспользовалась тѣмъ, что Неонила
Львовна ушла куда-то и прошла къ Ольгѣ Сергѣевнѣ. Она не
считала возможнымъ скрывать опасность, грозившую всѣмъ.
— Тетя, — сказала она, — князь мнѣ
передалъ письмо отъ Мишеля.
Она подала записку Ольгѣ
Сергѣевнѣ.
Та прочла и перечла ее нѣсколько разъ.
Она подняла глаза къ образу. Такъ вотъ оно чудо, которое она намолила у образа
Богоматери? Все обманъ! Всѣ ея прежнiя чувства, все прошлое, притушенное
разлукой недоброжелательство къ мужу вспыхнуло съ прежней силой. Онъ снова
сталъ для нея «полковникомъ», Донъ-Кихотомъ. Она перечитывала и старалась
вникнуть въ смыслъ гого, что писалъ Шура.
«Онъ, старый офицеръ генеральнаго штаба, не
увидалъ того, что увидалъ и понялъ Шура, кого всѣ они считали недоучкой и
дуракомъ. Шура правъ. Конечно, — авантюра! … Ихъ триста человѣкъ, и они
хотятъ бороться со всѣмъ мiромъ. Съ какого-то таинственнаго острова на
экваторѣ? Безумiе».
Ольга Сергѣевна давно въ сердцѣ
своемъ постановила, что большевики непобѣдимы. Отъ того и было такъ темно
и мрачно на ея сердцѣ, что она-то знала, что никогда, никогда не вернется
она въ Россiю. Да и зачѣмъ? Тринадцатилѣтнее владычество
большевиковъ не могло пройти незамѣтнымъ. Какую она найдетъ теперь тамъ
Россiю?
Весь праздникъ души, что торжественнымъ
гим-номъ пѣлъ въ ея сердцѣ, когда она узнала, что ея близкiе живы и
здоровы, пропалъ и затихъ, какъ только она поняла, на какое дѣло они
пошли.
Россiи они все равно не спасутъ, только сами
погибнутъ.
— Порви, — сказала она Леночкѣ, не зная,
что сказать, — порви эту записку … Нѣтъ, постой … He рви … Она можетъ
понадобиться. Можетъ быть, и правда все это надо разстроить … Просить
вмѣшаться французовъ и остановить эту авантюру … Но храни ее бережно …
Храни … Никому не показывай. Ты понимаешь … Ты тамъ сама жила … Ты знаешь,
чѣмъ и какъ ты рискуешь, если кто не надо узнаетъ про нее. Хоть и Парижъ
… У меня Кутеповъ передъ глазами … И никто за него не заступился …
Онѣ обѣ были, какъ заговорщицы.
Отъ мамочки молчаливо рѣшили все скрыть. Но та видѣла огорченное
лицо дочери и тревогу Леночки, видѣла, что отъ нея что-то скрываютъ,
обижалась и ворчала вслухъ:
— Это, дѣти мои, какъ «винтики» … Какъ
«винтики» … Куда повернутъ, куда полетятъ, такъ тому и быть … Такъ тому и быть
… — какъ ворона каркала она.
Тревога, волненiе и безпокойство и самый
ужасный страхъ вошли въ бѣдныя каморки виллы «Les Coccinelles» …
XXIV.
Ha другой день Леночка не хотѣла
ѣхать въ Сорбонну, но Софи пришла за нею, какъ всегда и сказала, что
будетъ какая-то особенно интересная лекцiя пра прошлое Парижа, будетъ читать
знаменитость, и Леночка рѣшила, что опасности нѣтъ, если она
поѣдетъ. Она при Софи запрятала поглубже на грудь голубенькiй конвертикъ
и онѣ поѣхали въ Сорбонну.
— Только, какъ тамъ хочешь, — сказала дорогой
Леночка, — а завтракать мы пойдемъ куда-нибудь въ Латинскомъ кварталѣ. Я
откровенно тебѣ скажу, я не хочу встрѣчаться съ Жаномъ. Ты на меня
не обижайся. Мнѣ не нравится его манера все выспрашивать.
— Какъ хочешь, — спокойно сказала Софи. Лекцiя
и правда была интересная. Все прошлое Парижа встало передъ Леночкой. Улицы,
острова, кварталы, все точно ожило, покрылось невидимыми тѣнями людей
прошлаго и стали по новому интересными и красочными. Завтракали въ маленькомъ
ресторанчикѣ во второмъ этажѣ, на площади Сенъ-Мишель. Низенькая
комната стараго дома была полна молодежи, студентами и студентками. Веселый
смѣхъ и шутки не смолкали. На Леночку поглядывали съ нескрытой симпатiей.
Она нравилась восточною красотою. Леночка совсѣмъ разсѣялась, и ей
стали казаться смѣшными ея страхи. Въ Парижѣ ничто не можетъ
случиться и никакой большевикъ не посмѣетъ къ ней прикоснуться, какими бы
тайнами она ни обладала. Эта милая молодежь за нее заступится и ее отстоитъ!
Послѣ завтрака Софи предложила
Леночкѣ поѣхать вмѣстѣ съ нею къ ея портнихѣ. Это
была давнишняя мечта Леночки. Софи была парижанка и какъ и гдѣ она
одѣвается это было такъ интересно. Онѣ взяли такси и поѣхали
куда-то очень далеко.
Домъ былъ сѣрый и невзрачный. Софи
объяснила, что это совсѣмъ недорогая портниха, но она работаетъ на лучшiе
дома Парижа. Онѣ поднимались на шестой этажъ. Лифта не было. Леночка
запыхалась, когда дошла до площадки, куда выходили три двери. Тишина стыла за
ними. Софи позвонила у лѣвой двери и, какъ показалось Леночкѣ,
позвонила какъ-то странно, нѣсколько разъ. Дверь открылась, и тотъ, кто
открылъ ее, спрятался въ сосѣдней комнатѣ. Была темная крошечная комнатушка
прихожей, куда несмѣло вошла Леночка за подругой. Едва она вошла, какъ
чьи-то сильныя руки схватили ее за горло, въ полумракѣ Леночкѣ
показалось, что она увидала искаженное лицо Жана, Софи набросилась на нее,
разстегнула ея платье и выхватила завѣтную записку Мишеля Строгова. Это
было одно мгновенiе, въ слѣдующее, ее грубо повернули, съ силою толкнули
къ лѣстницѣ, такъ, что она не могла удержать равновѣсiя и
покатилась по крутымъ ступенямъ. На верху дверь закрылась, и тамъ все стихло.
Леночка очнулась и оправилась отъ охватившаго
ее страха только на площадкѣ пятаго этажа, куда она скатилась. Безумный
страхъ владѣлъ ею. «Вотъ оно, вотъ оно», — думала она, — «большевики. Я
попала къ нимъ въ ловушку».
Она подобрала платье, застегнула блузку и въ
страхѣ, не отдавая себѣ отчета что дѣлаетъ, побѣжала
внизъ по лѣстницѣ, выскочила изъ дома и пробѣжала
нѣсколько кварталовъ, не замѣчая ни домовъ, ни улицъ. Она остановилась
только у входа въ подземную дорогу. Тутъ были люди, и не было такъ страшно. Она
поѣхала домой. У нея отъ ушиба и нервнаго потрясенiя разболѣлась
голова. Дома она съ трудомъ дозвонилась. «Мамочка» предавалась
послѣобѣденному сну. Ольги Сергѣевны не было дома.
Неонила Львовна впустила Леночку и сейчасъ же
снова завалилась на постель. Леночка прошла въ комнату Ольги Сергѣевны и
легла. Въ головѣ шумѣло. Ее била лихорадка. Она смутно сознавала,
что случилось нѣчто ужасное. Если Софи вырвала записку, она знала ея
содержанiе. Она въ ней была заинтересована. Она знала по-Русски. Она и Жанъ не
были французами, но были Русскими большевиками, нарочно подосланными, чтобы
слѣдить за ними.
Сквозь сильную головную боль мысль Леночки работала
удивительно ясно и логично. Точно какой-то клубокъ распутывался передъ нею, и
все становилось яснымъ. Во всемъ, во всемъ виновата та «авантюра», куда
«влипли» полковникъ и Мишель Строговъ. Она была давно раскрыта большевиками и
имъ надо было только добыть доказательства. Софи была подослана, чтобы
слѣдить за ними. Они всѣ обречены. Тутъ мысли путались. Что же дальше
дѣлать и какъ спастись? Прежде все надо дождаться Софи и начисто
объясниться съ нею. Сказать обо всемъ Ольгѣ Сергѣевнѣ или лучше
не говорить? Нѣтъ, лучше пока молчать. Надо узнать все отъ Софи.
Леночку предательство подруги не возмущало. Въ
школѣ второй ступени она и не такое предательство видала. Но здѣсь
противъ предательства можно было бороться. Онѣ были не въ Совѣтской
республикѣ, а въ Парижѣ, переполненомъ «бѣлыми» Русскими и,
если она скажетъ имъ, кто такое Софи Земпель, ее заставятъ вернуть записку. Это
были смѣлые и гордые планы. Они быстро и какъ-то совсѣмъ
непослѣдовательно смѣнялись полнымъ упадкомъ духа и тогда Леночка
тряслась въ лихорадкѣ и съ тревогою прислушивалась къ тому, что
дѣлается на дворѣ. Ей слышались гудки автомобиля, грохотъ
грузовика, людской гомонъ. Она въ тревогѣ поднималась на постели. Въ эти
часы все было тихо въ этомъ мѣстечкѣ, всѣ жители были на
работѣ или на службѣ въ Парижѣ и оно было пусто. Леночка
ждала возвращенiя Софи. Должна же будетъ она вернуться.
Софи не приходила. Ольга Сергѣевна
вернулась усталая и раздраженная. Отъ ея вчерашняго праздничнаго настроенiя и
слѣда не осталось. Обѣдали молча. Скоро послѣ обѣда
полегли спать. Леночка не спала. Она все прислушивалась, когда вернется Софи.
Ты не возвращалась.
Леночка рѣшила искать Софи въ
Сорбоннѣ, ѣхать въ Русскiй ресторанъ. Тамъ она скажетъ всѣмъ,
что съ нею сдѣлали, ее поймутъ и должны же они, Русскiе, ее защитить. Это
же Парижъ!.. Парижъ!!.
Въ Сорбоннѣ Софи не оказалось. Леночка
дождалась перерыва на завтракъ и поѣхала въ ресторанъ.
Смутно и невесело было у нея на душѣ.
Рѣшимость изобличить Жана и Софи смѣнялись безотчетнымъ страхомъ и
желанiемъ никогда не встрѣчаться съ ними.
XXV.
Уже издали Леночка увидала, что ихъ три
мѣста были свободны. Прислуга берегла ихъ для постоянныхъ
посѣтителей. Красивая блондинка посторонилась передъ Леночкой, давая ей мѣсто.
Леночка, не думая, заказала себѣ что то. Она ѣла машинально.
Противъ нея сидѣлъ лохматый бородачъ и, размахивая дымящейся папиросой и
пуская дымъ въ лицо Леночкѣ, сердито говорилъ своему собесѣднику.
— Воинствующее безбожiе лучше, въ тысячу разъ
лучше полнаго равнодушiя и бойкота вѣры, овладѣвающихъ все
болѣе и болѣе матерiалистическимъ мiромъ Европейскихъ странъ.
Воинствующее безбожiе возбуждаетъ въ населенiи протестъ, желанiе бороться. Вы
посмотрите, какъ отвѣчаетъ населенiе на всѣ преслѣдованiя
христiанъ въ совѣтской Россiи. На мѣсто разрушаемыхъ, растутъ новые
храмы и тамъ, гдѣ ихъ можно меньше всего ожидать: въ рабочихъ кварталахъ
… Они распинаютъ Христа, а Христосъ воскресаетъ тамъ во всей славѣ своей.
Тогда, какъ здѣсь, это лаическое воспитанiе дѣтей въ безбожiи
ведетъ къ полному оскудѣнiю вѣры, къ поразительному равнодушiю, къ
незнанiю ея.. къ самому грубому матерiализму.
— Большевики въ роли возбудителей христiанства
… Оригинальная мысль, Борисъ Николаевичъ.
Леночка дальше не слушала. Она отдавала блюдо
за блюдомъ, почти не притрогиваясь къ нимъ.
— Барышня нездоровы, или ей что не нравится, —
спросилъ, ее подававшiй ей молодой человѣкъ.
— Нѣтъ, такъ … Дайте счетъ.
Она заплатила и пошла къ выходу. Когда проходила
между столами съ тѣсно сидящими гостями ей показалось, что кто то, кажется,
та блондинка, что разсказывала про Муру, сказала негромко: «совдепка» …
Леночкѣ это было все равно. Она вдругъ
поняла, что ничего нѣтъ. Все призраки … И блондинка — призракъ …
Развѣ есть такое имя Мура?.. Спалила на Рождествѣ скатерть и этимъ
огорчалась … Слизь!.. Слизь! Просто дура!.. Леночка подымалась къ площади
Этуали, и встрѣчные люди казались ей кинематографическими тѣнями.
Собственно жизни нѣтъ. Все это только такъ кажется. И происшествiе,
бывшее вчера и оскорбительность выталкиванiя въ дверь — это все относительно,
какъ посмотрѣть? Было больно, когда она упала на ступени лѣстницы,
но боль бываетъ и сильнѣе. Ее могли и пытать? Могли убить!.. Убить.. Что
такое убить? Сдѣлать ее слизью, какою она была нѣкогда … Воинствующее
безбожiе, какъ все это глупо! Ничего нѣтъ!.. Ниче-го нѣтъ!
Леночка спускалась къ Сенѣ. Золотистый
туманъ легкой дымкой стлался надъ городомъ. День былъ прекрасенъ. Впереди, какъ
какое-то страшное безобразное чудовище, широко разставившее ноги, высилась къ
голубому небу Эйфелева башня. Леночка вошла подъ нее.
На башню пускали. Заплатить нѣсколько
франковъ и можно подняться почти на самый верхъ. На самую верхнюю площадку
нельзя, тамъ радiо-телеграфъ.
Все въ томъ же задумчивомъ, точно
полубредовомъ состоянiи Леночка заплатила деньги и встала въ кабину подъемной
машины. Земля стала уходить изъ-подъ ея ногъ. Парижъ открывался все шире и
шире. На верху было всего двое посѣтителей. Какая-то молодая дама и съ
ней молодой человѣкъ. Поднявшiеся съ Леночкой пассажиры разбрелись по
площадкѣ. Леночка смотрѣла на нѣжныя дали, тонущiя въ розовой
дымкѣ. «Это такъ кажется … Тамъ старая Лютецiя. O ней такъ пламенно и
страстно разсказывалъ вчера профессоръ. Тамъ ходили римляне … У Клюни были ихъ
бани. Гдѣ они? Слизь? Изъ слизи вышли и въ слизь и обратились. И сколько
ихъ!.. Этихъ Людовиковъ, что жили здѣсь и по своему любили Парижъ. И
тамъ, гдѣ теперь широкое авеню Елисейскихъ полей съ непрерывнымъ рядомъ
автомобильныхъ магазиновъ и такое людное, что трудно перейти черезъ него,
когда-то собаками травили оленей. Все прошло. И Наполеоны и революцiя. Все
случайные гости на одинъ мигъ. И она на одинъ мигъ. И, если ускорить этотъ мигъ
— не будетъ и этого липкаго страха передъ большевиками и думъ, какъ устроить
свою жизнь. Недавно она смотрѣла въ лицо Жана и думала, если годъ
обратить въ секунду.. И на ея глазахъ лицо Жана старѣло, потомъ умерло,
разложилось и обратилось въ слизь. Ну … ускорить».
Леночка нагибалась все болѣе и
болѣе внизъ. Точно хотѣла она разсмотрѣть, кто тамъ ходитъ
подъ самыми ногами башни. Кровь приливала къ головѣ и пространство тянуло
ее въ бездну.
Она нагнулась еще больше. Мокрое желѣзо
перилъ холодило животъ сквозь тонкую матерiю платья.
Это случилось какъ-то вдругъ и совсѣмъ
непонятно. Голова сладко закружилась. Леночка услышала, какъ кто-то, можетъ
быть, это была даже и она, или та молодая дама, что стояла недалеко отъ нея,
закричалъ тонкимъ, все удаляющимся и замирающимъ голосомъ: а-а-а!..
И потомъ наступила
страшная тишина. Въ ушахъ шумѣло …. Какой-то ударъ, и все исчезло въ
небытiи.
To, что было Леночкой, кровавой слизью лежало
точно мѣшокъ съ чѣмъ-то мокрымъ, на панели. Начиналъ собираться
народъ. Полицейскiй громко и заливисто подалъ свистокъ. Какiе-то люди принесли
брезентъ. Имъ накрыли Леночку отъ любопытныхъ взглядовъ. Какъ-то очень скоро
примчался автомобиль съ краснымъ флажкомъ на крышѣ. Изъ него вышли
санитары Они уложили Леночку на носилки и погрузили на автомобиль. Въ
госпиталѣ, куда привезли тѣло Леночки, его раздѣли,
осмотрѣли и, не найдя никакихъ документовъ, или примѣтъ, по
которымъ можно было признать, кто была Леночка, отмѣтили «inconnue» и
отправили въ моргъ.
Эту ночь на виллѣ «Les Coccinelles» Ольга
Сергѣевна не ложилась спать. Она ожидала Леночку. Но пришло солнечное,
яркое лѣтнее утро, Леночка не вернулась. Сильное безпокойство охватило
Ольгу Сергѣевну, но надо было идти на службу. Это время хозяева такъ
легко разсчитывали служащихъ, что надо было быть на чеку и ничѣмъ не
возбудить недовольства патрона. Вернувшись, она первымъ дѣломъ спросила
маамочку», вернулась-ли Леночка.
Леночки не было. Теперь забезпокоилась и Неонила
Львовна. Но прошелъ и еще день, пока Ольга Сергѣевна рѣшилась пойти
въ полицейскiй комиссарiатъ. Тамъ ее разспросили, записали ея адресъ и сказали,
что если на ушедшей не было ея «carte d'identité», отыскать будетъ очень
трудно, почти невозможно.
— Какъ же такъ? … — сказала Ольга
Сергѣевна. Ея лицо изобразило страданiе.
— Въ Парижѣ, мадамъ, примѣрно пять
тысячъ человѣкъ ежегодно безъ вѣсти пропадаетъ, — любезно сказалъ
чиновникъ. — Однако, это вовсе не обозначаетъ, что всѣ они
непремѣнно гибнутъ. Мало ли причинъ, по какимъ люди скрываются изъ своихъ
домовъ, никому объ этомъ не заявляя. Особенно молодыя дѣвушки.
—Ho y ней, повидимому, никого не было, съ
кѣмъ она могла бѣжать.
— Но вы говорите, что одновременно съ нею изъ
вашего дома исчезла мадемуазелль Земпель. Наконецъ, допустимъ, что могло быть
уличное происшествiе, она могла попасть подъ автомобиль или трамвай. Ее отвезли
бы въ госпиталь и какъ только она пришла бы въ себя, она назвалась бы и сказала
свой адресъ и васъ по нему увѣдомили бы. Это въ интересахъ самого госпиталя.
Если она задавлена совсѣмъ — ищите ее въ моргѣ. Можетъ быть, ее еще
не похоронили.
Ольга Сергѣевна разсказала все это Неонилѣ
Львовнѣ.
Старуха подняла на дочь глаза.
— Искать въ моргѣ … Зачѣмъ, —
медленно проговорила она. — Зачѣмъ намъ мертвая Леночка?..
— Ахъ, мамочка, надо же ее похоронить, какъ
слѣдуетъ.
— Похоронить, какъ слѣдуетъ, — строго
сказала старуха. — А ты, милая, знаешь, что это значитъ — похоронить, какъ
слѣдуетъ? … Что Леночка-то вѣрила въ твоего Бога?.. Ты только
подумай, сколько расходовъ, сколько совсѣмъ ненужнаго безпокойства
сдѣлаетъ то, что ты называешь — похоронить, какъ слѣдуетъ!.. Что
она-то сама свою мать, какъ слѣдуетъ, хоронила?.. Heбось, закопала, да и
все. Леночка пришла къ намъ незванная, непрошенная, такъ и ушла … Такова ея
судьба.
Жестокая, но и неотразимая логика была въ
словахъ «мамочки». Въ ней говорила та бѣженская мудрость, которой не была
чужда и сама Ольга Сергѣевна. Она наклонила голову и молча вышла изъ
комнаты.
«Да … Было бы это дома … Въ Россiи …
Совсѣмъ другой разговоръ былъ бы. Тамъ мы все знали … Здѣсь … пять
тысячъ человѣкъ ежегодно пропадаетъ въ Парижѣ и никого это не
удивляетъ».
Она прислушалась. Ей показалось, что въ
сосѣдней комнатѣ ходитъ Леночка и напѣваетъ вполголоса:
— Жила была Россiя
Великая держава.
Враги ее боялись —
Была и честь, и
слава …
— Ни чести, ни славы, — прошептала Ольга
Сергѣевна, — такъ что ужъ … гдѣ ужъ … Молчать надо и терпѣть
… Такъ Богу угодно …..
Нежданная и незванная явилась Леночка изъ той
невѣдомой и страшной страны, которая была Россiей и такъ же неожиданно и
таинственно исчезла … Какъ исчезаетъ пять тысячъ человѣкъ въ
Парижѣ, какъ столько и столько исчезло за это время ея близкихъ и знакомыхъ
… Такой значитъ вѣкъ … Время такое … На все воля Божiя.
XXVI.
Газеты, помѣстившiя замѣтку о
свадьбѣ мистера Холливель и миссъ Гербертъ въ православиой церкви,
написали вѣрно. Но это не было англiйскимъ снобизмомъ, какъ о томъ подумали
Пиксановъ и многiе другiе. Это вытекало изъ самаго происхожденiя миссъ Гербертъ,
о чемъ никто не зналъ.
Когда капитанъ Холливель въ самой изысканной и
красивой формѣ сдѣлалъ Анѣ Гербертъ предложенiе и просилъ ея
руки и сердца, Ана подняла на него свои прекрасные сине-голубые глаза — въ нихъ
точно играла морская волна — и сказала въ тихомъ раздумьи:
— Прежде чѣмъ дать вамъ мой
отвѣтъ, Джемсъ, я должна вамъ сказать, кто я.
Она сдѣлала паузу. Она, казалось, ждала
вопросовъ.. Ихъ не послѣдовало.
— Я не англичанка, какъ вы думаете. Я Русская.
Она внимательно посмотрѣла въ глаза мистера Холливеля. Въ нихъ не было
ничего. Лицо молодого капитана было какъ всегда холодно. Онъ ждалъ, что скажетъ
его нареченная.
— Я не миссъ Гербертъ. Я только удочерена Гербертами
и потому ношу ихъ фамилiю. Я дочь Русскаго офицера — Ранцева. Душа у меня
Русская, хотя, конечно, по воспитанiю я болѣе англичанка, чѣмъ
Русская.
Она замолчала.
— Я объ этомъ имѣлъ случай догадываться.
Это ничего не мѣняетъ, и я повторяю вамъ то, что сказалъ только что: — я
прошу васъ быть моей женой.
Ана густо покраснѣла и тихо сказала.
— Поговорите объ этомъ съ моею матерью. Что
касается до меня — я согласна. Но я прошу, чтобы вѣнчанiе было, какъ въ
англиканской, такъ и въ православной церквахъ. Я очень предана, люблю и уважаю
вѣру моихъ родителей.
Мистеръ Холливель молча нагнулъ голову,
выражая этимъ полное согласiе съ желанiемъ невѣсты.
Бракъ былъ, какъ всѣ браки этого
вѣка, этого послѣ военнаго времени, когда у людей измѣнились
понятiя и произошла «переоцѣнка цѣнностей». Наружно — бракъ хоть
куда. Въ англiйскiй романъ или въ кинематографъ — лучше не надо. Моднѣе,
лучше, красивѣе ничего не придумаешь.
Женихъ высокаго роста, чисто бритый, черноволосый,
съ прической, точно лакомъ покрытой, на проборъ, съ сухимъ, замкнутымъ,
волевымъ лицомъ, съ тонкими губами и холодными, узко поставленными стальными
глазами. Ему было за тридцать. Онъ повидалъ войну, и орденская ленточка
украшала петлицу его костюма. Всегда безукоризненно и со знанiемъ мужской моды
и того, гдѣ что надѣть, одѣтый, съ умѣло подобранными
въ тонъ и цвѣтъ галстухомъ и платочкомъ, онъ былъ всегда и вездѣ
примѣтенъ. Никто не умѣлъ такъ красиво носить фракъ, такъ
одѣться на морскомъ пляжѣ въ пижаму, такъ быть хорошъ въ теннисныхъ
трусикахъ и фуфайкѣ, какъ Джемсъ Холливель. Самый изящный мужчина
англiйской колонiи въ Парижѣ! He было, казалось, спорта, котораго онъ не
зналъ бы. Онъ плѣнилъ Ану своей прекрасной верховой ѣздой и знанiемъ
лошади. На площадкѣ «Багатель» въ Булонскомъ лѣсу онъ былъ
непобѣдимъ въ полло. Онъ прекрасно игралъ въ теннисъ и былъ постояннымъ
партнеромъ миссъ Аны. Онъ отлично игралъ въ гольфъ и былъ благородно красивъ въ
игрѣ въ бриджъ. Онъ умѣлъ править автомобилемъ и, кажется, леталъ
на аэропланѣ. Совершеннѣйшiй герой романа второй четверти двадцатаго
вѣка и мудрено ли, что Ана такъ легко согласилась быть его женой? Она
была ему достойной во всѣхъ отношенiяхъ парой. Красавица въ первомъ
цвѣтенiи красоты, изящная, стройная, строго воспитанная, прекрасная
спортсменка, она не отставала ни въ чемъ отъ жениха. Она ѣздила безупречно,
играла въ теннисъ и бриджъ и на дняхъ добилась завѣтной мечты — получила
картъ розъ на право управлять автомобилемъ.
Ана подъ руководствомъ той Русской барышни, съ
кѣмъ она проходила уроки Русскаго языка, читала романы Тургенева и
Гончарова. Героинь этихъ романовъ она не понимала. Онѣ казались ей
скучными и вялыми. Разсужденiя героевъ ей представлялись ненужными. Джемсъ
Холливель вполнѣ удовлетворялъ ея вкусу. Она была очень молода и ея мать
говорила ей, что можно бы и подождать съ бракомъ, но для чего ждать? Она была дѣвушкой
своего вѣка. У нея былъ современный взглядъ на бракъ. Въ немъ бракъ
открывалъ ей свободу и давалъ возможность выявить свое «я». Бракъ, хотя она и
настаивала на его церковности и смутно вѣрила, что это «таинство», все
таки былъ для нея нѣчто въ родѣ торговаго договора, гдѣ честность
предполагалась съ обѣихъ сторонъ. Для Аны мистеръ Холливель былъ джентельменъ.
Онъ былъ офицеромъ. Ана выросла въ уваженiи къ этому званiю. Ея названый братъ
былъ убитъ на войнѣ. Ея отецъ былъ на этой же войнѣ тяжко раненъ.
Въ офицерѣ, въ представленiи Аны, было достаточно благородства, чтобы
безтрепетно отдать свою судьбу въ руки офицера Королевской армiи.
Въ ихъ кругу было принято послѣ свадьбы
совершать путешествiе, и Ана мечтала поѣхать на сѣверъ, куда нибудь
въ фiорды Норвегiи, или даже въ Россiю, недоступную для Русскихъ, но
вполнѣ удобную для «интуристовъ». Это было бы такъ любопытно
посмотрѣть страну своихъ настоящихъ родителей. Ее тянула и Манчжурiя,
гдѣ на постовой квартирѣ Русскаго офицера она родилась. Голосъ
крови говорилъ въ ней. Но ея мужъ былъ связанъ дѣлами въ Парижѣ и
какъ разъ въ это время онъ получилъ важное служебное порученiе, мѣшавшее
ему покинуть Парижъ. Мать предложила имъ устроиться на ея квартирѣ на avenue
Henri Martin, a caма уѣхала на морской курортъ въ Бретани. Она прислала
свой прекрасный Пакхардтъ своей дочери и дала его въ полное ея распоряженiе.
Такъ въ старыхъ привычныхъ рамкахъ началась
для Аны новая замужняя жизнь. Кое отъ чего ей хотѣлось бы отмахнуться и
забыть. И, когда оставалась она одна, а это бывало каждое утро послѣ
прогулки верхомъ, она начинала сознавать, что все таки для брака, кромѣ
всей этой красивой внѣшности, ее окружавшей, нужна была еще и какая то особенная
всепрощающая и все принимающая любовь. Ее у нея не было. И, можетъ быть,
Тургеневскiя героини, кого она не понимала, были счастливѣе ея. Но было поздно.
Тогда начала она задумываться надъ жизнью, заниматься самоанализомъ и невольно
слѣдить за мужемъ.
Онъ былъ джентльменомъ и безупречнымъ мужемъ,
но онъ былъ далекъ отъ нея. Она всю себя, со всѣми своими чувствами,
думами, переживанiями и вопросами отдала ему. У нея ничего не было скрытаго отъ
него. Онъ былъ замкнутъ, и она, его жена, не знала даже, гдѣ и чѣмъ
онъ служитъ. Онъ капитанъ королевской армiи.
Но гдѣ его полкъ? Онъ не состоитъ
военнымъ атташе. Но онъ занятъ, онъ не въ отпуску. Онъ служитъ. У него есть
портфель съ бумагами, всегда закрытый на ключъ, и этотъ ключикъ онъ носитъ на
тонкой цѣпочкѣ на груди. Его часто и даже ночью вызываютъ къ телефону
и когда онъ говоритъ, онъ прикрываетъ дверь кабинета и говоритъ въ полголоса.
Онъ получаетъ много газетъ и писемъ. Онъ получаетъ телеграммы и не любитъ,
чтобы въ его отсутствiе она, его жена, ихъ распечатывала. Телеграммы служебныя
и часто шифрованныя. Послѣ нихъ онъ бываетъ озабоченъ и какъ ни хорошо
онъ скрываетъ свои чувства, она видитъ, что онъ обезпокоенъ. Это ее обижало.
Можетъ быть потому, что она была Русской, и въ сердцѣ своемъ носила
другое понятiе объ отношенiи мужа къ женѣ.
Утромъ они ѣздили верхомъ. Потомъ мужъ
переодѣвался и уѣзжалъ иногда до самаго обѣда. Она играла на
роялѣ. Въ четыре часа въ громадной столовой накрывали чайный столъ,
наставляли пирожныя, варенья и конфеты. Кто нибудь приходилъ. Подруги по консерваторiи,
игроки въ теннисъ. I1Iелъ пустой свѣтскiй разговоръ. Говорили о политическихъ
новостяхъ, о паденiи рабочаго министерства въ Англiи, о планахъ Макдональда, о
его высокомъ патрiотизмѣ. Ее это не интересовало. Тогда говорили о новыхъ
фильмахъ, о постановкахъ въ театрѣ, о колонiальной выставкѣ. Это
было ей болѣе по душѣ. Она полюбила колонiальную выставку и почти
каждый день, когда была хорошая погода, по вечерамъ ѣздила съ мужемъ на
нее. Ей тамъ казалось, что всѣ эти арабы, негры, аннамиты, китайцы знаютъ
какую то другую жизнь и что эта ихъ жизнь полнѣе и счастливѣе жизни
Парижанъ, толпящихся тамъ.
Однажды къ ней пришелъ въ ея чайные часы безупречно
одѣтый русскiй князь. Онъ хорошо говорилъ по-англiйски. Онъ мило
бесѣдовалъ съ ея гостями и, пересидѣвъ ихъ всѣхъ, сказалъ ей,
что извѣстiе о гибели «Немезиды» — она и не слышала объ этомъ —
невѣрно, что всѣ, гость подчеркнулъ слово всѣ, живы и здоровы и что все у нихъ идетъ хорошо. Тогда Ана
поняла, о чемъ говоритъ этотъ милый застѣнчивый молодой человѣкъ.
Она покраснѣла и горячо благодарила его за извѣстiе. Въ этотъ день
она поняла, что есть на свѣтѣ люди, болѣе ей дорогiе,
чѣмъ ея безупречный мужъ.
Вечеромъ, возвращаясь съ выставки, они мчались
на автомобилѣ по горящимъ безчисленными огнями вывѣсокъ и рекламъ
улицамъ Парижа. По троттуарамъ сплошной черной рѣкой текли люди. Ана
смотрѣла на нихъ. Ей было скучно. Она жалѣла эту толпу. Что у нея,
какiе интересы? Она думала о тѣхъ, кто теперь на таинственномъ
островѣ ведетъ громадную патрiотическую работу для спасенiя Родины. Тамъ
былъ ея отецъ, тамъ былъ этотъ старый человѣкъ, нравившiйся ей больше
молодыхъ, кто разсказалъ ей ея прошлое и кто сказалъ ей, что будетъ день, когда
она будетъ гордиться отцомъ, какъ ни одна дочь еще не гордилась.
«Да … Тамъ живые … Здѣсь вся эта суета …
Здѣсь мертвые» …
Она косила глаза на мужа. Онъ во всемъ своемъ
аристократическомъ великолѣпiи, всею своею банальною фигурою, точно
соскочившею съ рекламы моднаго портного или съ афиши кинематографа, казался ей
не настоящимъ, но тѣнью, сошедшею съ экрана. Тѣни города окружали
ее.
Было страшно и до тошноты, до отвращенiя
скучно.
XXVII.
Ha колонiальной выставкѣ, на открытой
сценѣ, гдѣ публика сидѣла подъ жидкими акацiями, Лаосскiя танцовщицы,
оперно драматическая труппа изъ Кохинхины и балетъ изъ Камбоджи давали
короткiя, принаровленныя для нетерпѣливой Европейской толпы, представленiя.
Холливели взяли первыя мѣста. Развязный
молодой человѣкъ, французъ, провелъ ихъ къ глубокимъ мягкимъ кожанымъ
кресламъ и усадилъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ сцены.
Открытая небольшая деревянная платформа,
устланная коврами, сзади была драпирована шелковою занавѣсью, расшитою золотымъ
узоромъ. Вправо отъ платформы, на низкихъ табуретахъ сѣли музыканты, для
каждаго спектакля свои. Смугло желтые люди, серьезные, молчаливые, невозмутимые,
молодые, густо и черноволосые и старые сѣдые, человѣкъ
двѣнадцать, въ пестрыхъ розовыхъ, голубыхъ и зеленыхъ шелковыхъ шароварахъ
и черныхъ курткахъ, прикрытыхъ европейскимй пиджаками, — было свѣжо и они
непривычные къ Парижскому климату ежились, — разбирали инструменты, большiе
длинные барабаны, ряды связанныхъ вмѣстѣ камышевыхъ флейточекъ и
подобiе скрипокъ.
Они сейчасъ же и заиграли. Мѣрно билъ
барабанъ, ему вторили флейты и однообразный мотивъ журчалъ усыпляюще, какъ горный
ручей.
Ана внимательно слушала музыку. Она не
казалась ей ни скверной, ни скучной. Она понимала ея своеобразную мелодiю и
старалась своимъ Европейскимъ ухомъ запомнить ее. У нея въ рукахъ была афиша,
гдѣ по-французски было разсказано то, что будутъ играть на сценѣ.
Шла «Фаворитка короля». У самой занавѣси, посрединѣ эстрады, въ
высокихъ креслахъ съ налокотниками и спинками, сѣли двѣ расшитыя въ
золото и шелка женщины, одна постарше съ желтымъ лицомъ, другая молодая,
нарумяненая и набѣленая, какъ кукла. Ана всматривалась въ нихъ. Онѣ
изображали королевъ. Все время дѣйствiя онѣ просидѣли
неподвижно, молодая пропѣла небольшую арiю, а между тѣмъ, Ана
видѣла, что онѣ играли и что игра ихъ была тонка и серьезна. Она
заключалась лишь въ перемѣнѣ выраженiя глазъ, въ легкомъ
кивкѣ головою, то отрицательномъ, то положительномъ. У ихъ ногъ
разыгрывалась драма. Король Нонъ-Тонъ былъ уличенъ въ связи съ дочерью своего перваго
министра, и эти женщины, королевы, требовали, чтобы онъ приговорилъ свою
возлюбленную къ смерти. Актриса, игравшая фаворитку короля, изнывала отъ
страсти, отъ любви къ королю, отъ сознанiя своей вины и отъ пониманiя, что
смерть для нея неизбѣжна. И Нонъ-Тонъ и его фаворитка пѣли по
очереди, иногда въ сильныхъ мѣстахъ, вдругъ изъ за оркестра, поднимутъ головы
сидящiя тамъ женщины и пропоютъ одну двѣ фразы, какъ бы утверждая то, что
происходитъ между королемъ и его возлюбленной.
Жалобная пѣсня раскручивалась, какъ шелковый
клубокъ, вилась, свивалась, терзала сердце и томила.
— Кошачiй концертъ какой то, — пробормоталъ
Джемсъ.
Ана оглянула публику. Черезъ два мѣста
отъ нея старикъ сладко спалъ въ удобномъ креслѣ. Публика смотрѣла
снисходительно - равнодушно, какъ смотрятъ дѣтскiй театръ марiонетокъ въ
скверѣ у Елисейскихъ полей. Для нея это была экзотическая Азiатчина, на
которую можно было смотрѣть, какъ на что то дѣтское, наивное, но
чѣмъ нельзя было серьезно увлекаться. Ана увлекалась пьесой. Она ей что
то напоминала. Ана знала, что когда то, въ дни ея дѣтства, у нея была
няня китаянка, что она даже была въ китайскомъ театрѣ, но не могли же
далекiя, далекiя дѣтскiя воспоминанiя отразиться въ ея душѣ и
запомниться? Но это было такъ. Китайскiй театръ ее увлекалъ, и она переживала и
понимала игру артистовъ.
Маленькiя балерины изъ Камбоджи начали танцы.
Ана смотрѣла на ихъ кошачьи движенiя, на ходьбу босыми ногами на всю
ступню, на ихъ бѣло оливковыя толстыя икры и на умильную грацiю движенiя
и изломъ рукъ въ прямой ладони. Онѣ ей нравились.
Жалобная пѣсня раскручивалась, какъ
шелковый клубокъ. Вдругъ мистеръ Холливель легкимъ движенiемъ руки коснулся ея
перчатки. Ана повернулась къ нему.
— He правда ли, милая моя Ана, въ этихъ
танцахъ, въ этомъ пѣнiи, даже въ костюмахъ есть что то, что напоминаетъ
мнѣ тѣхъ казаковъ, бѣдныхъ Русскихъ, кого мы слушали недавно
въ ресторанѣ.
Ана вздрогнула. Она вспомнила пестрые шаравары
изъ подъ черныхъ и цвѣтныхъ черкесокъ, танцы съ мягкими движенiями, удары
въ ладони, ритмичное пѣнiе и вскрикиванiя, выкручиванiе ладони въ кисти
при танцѣ, — дѣйствительно что то общее было. Но это что то было
такое неуловимое, что можно было его отыскать и въ любомъ танцѣ. Она
этого не замѣтила. Онъ подмѣтилъ. To, что онъ сказалъ, ей
сдѣлало больно.
Они сейчасъ встали и пошли къ выходу. Индо китайская
музыка разстраивала нервы мистеру Холливелю. Ана шла впереди, пробираясь черезъ
толпу, наполнявшую выставку. Она низко опустила голову. Кровь бурно колотила ей
въ виски. Ей хотѣлось скорѣе остаться одиой, наединѣ съ самою
собой.
Всю дорогу они молчали. Дома Джемса ждали
дѣла, и онъ заперся въ кабинетѣ. Ана переодѣлась въ домашнее
удобное платье и сѣла въ будуарѣ съ книгой въ рукахъ. Она не
читала. Она вновь и вновь переживала то, что было на выставкѣ. Этотъ
примитивный китайскiй театръ, пѣнiе и музыка, — они журчали и переливались
въ ея ушахъ и сейчасъ — и сравненiе мужа съ Русской музыкой и танцами
неожиданно глубоко ее задѣвшее, почти оскорбившее были въ ея мысляхъ.
«Развѣ я Русская? … Я не помню Россiи …
Я никогда въ ней и не была … Родилась въ Китаѣ, воспитывалась въ Англiи …
И тѣмъ не менѣе, какъ смѣлъ онъ мнѣ это сказать!? … Онъ
не подумалъ, что это можетъ быть мнѣ непрiятно … Нѣтъ, онъ никогда
ничего на вѣтеръ, зря не скажетъ. Онъ хотѣлъ задѣть, или
испытать меня … Онъ испыталъ … Какъ все это странно! … Можетъ быть, это влiянiе
барышни, которая занимается со мною или результатъ тѣхъ волнующихъ
разговоровъ, что я вела съ инженеромъ Долле, но я Русская … Это голосъ крови …
Голосъ моего отца Петра Сергѣевича Ранцева и моей матери Валентины
Петровны, но я Русская, Русская и этого не сотрете никакимъ воспитанiемъ» …
Ана подошла къ зеркалу, посмотрѣла на
отраженiе прекрасной и тонкой, стройной своей фигуры и еще разъ уже громко
сказала:
— Я — Русская …
Это сознанiе наполнило ея душу гордымъ восторгомъ.
XXVIII.
Незамѣтно подошла Парижская зима. Въ
холодномъ туманѣ рождался день безъ солнца и умиралъ за дождевою
сѣткой. Какъ зеркало блистали, отражая огни автомобильныхъ фонарей и
рекламы вывѣсокъ, черные асфальты улицъ, и самыя улицы казались
рѣками съ застывшими водами.
Въ этой умирающей, плачущей природѣ шла
небывало напряженная людская жизнь. Происходили ужасныя событiя. «Огонь
поядающiй» коснулся людей, невидимая рука чертила на стѣнахъ домовъ среди
огненныхъ рекламъ страшныя, сакраментальныя слова, предвѣщавшiя гибель.
Газеты были полны необычайныхъ заголовковъ. Были взрывы, катастрофы, люди гибли
массами тамъ, гдѣ казалось бы они были въ полной безопасности. Шли совѣщанiя,
министры опять раскатывали по всѣмъ странамъ, Лига Нацiй непрерывно засѣдала.
Мужъ Аны въ связи со всѣмъ этимъ былъ очень занятъ, озабоченъ и
встревоженъ.
Ана ничего не замѣчала. Она все еще была
ребенкомъ и жила растительною жизнью. Утреннiя прогулки изъ за погоды были
сокращены. Скакать было нельзя: — Джемсъ берегъ свой костюмъ и не хотѣлъ
быть забрызганнымъ грязью. Ѣздили шагомъ и рысью. Дорожки Булонскаго
лѣса были мокры. Дома въ комнатахъ было такъ темно, что съ утра зажигали
электричество.
У Аны оставалось одно удовольствiе: — она каталась
на автомобилѣ, которымъ сама правила.
Она проѣхала благополучно черезъ площадь
Этуаль и выѣхала на avenue Victor Hugo. У въѣзда на него
остановился трамвай. Никто не выходилъ и никто не входилъ. Ана продолжала
ѣхать. У панели стояло два полицейскихъ съ велосипедами. Они были въ
большихъ темно-синихъ англiйскаго фасона фуражкахъ въ темно-синихъ курткахъ и съ
револьверами на широкихъ черныхъ поясахъ. Одинъ изъ нихъ сдѣлалъ знакъ,
чтобы Ана остановила машину. Ана повиновалась. Полицейскiй подошелъ къ ней.
У Аны быстро забилось сердце. Румянецъ покрылъ
ея щеки.
— Почему мадамъ не остановила машину на остановкѣ
трамвая?
— Потому что никто не входилъ и не выходилъ, —
отвѣтила Ана. Она была увѣрена въ своей правотѣ.
— Все равно вы должны были остановить. Пожалуйте
вашу карту. Гдѣ вы живете?
Ана достала изъ кожанаго кармана въ
автомобилѣ документы и подала ихъ полицейскому. Онъ отмѣтилъ что-то
въ своей книжкѣ.
— Можете ѣхать, мадамъ.
Ана пустила автомобиль. Шофферъ,
сидѣвшiй рядомъ съ нею, сказалъ спокойно:
— Вамъ придется заплатить маленькiй штрафъ.
За дневнымъ чаемъ Ана разсказала о приключенiи
— оно все еще волновало ее — своимъ подругамъ француженкамъ и англичанкамъ. Она
не утаила отъ нихъ, что это ее разстроило. Надъ нею посмѣялись.
— Конечно, ажанъ былъ правъ. Вы кругомъ не правы.
Да, это такiе пустяки. Съ нами это бываетъ по сто разъ въ годъ …
Для нея это не были пустяки. Можетъ быть, потому,
что она была Русская, и ей тѣ пѣвицы и танцовщицы, кого она
видѣла въ Лаосскомъ театрѣ на выставкѣ ближе, чѣмъ
всѣ эти холодно, слишкомъ холодно вѣжливые полицейскiе агенты.
Разговоръ о ея «аксиданѣ» прекратился.
Заговорили о томъ, что теперь всѣхъ такъ волновало. О борьбѣ съ
коммунистами, шедшей во всемъ мiрѣ.
— Вамъ, мадамъ Холливель, теперь должно быть
особенно интересно жить, — сказала молодая француженка. — Вы у самаго источника
всего новаго.
Ана широко раскрытыми глазами посмотрѣла
на говорившую. — «Почему», было въ ея взглядѣ.
— Ахъ, милая наша Ана еще такой ребенокъ, —
сказала старая англичанка. — Я думаю, Ана, вамъ временами должно быть страшно
за мужа.
Ана искренно ничего не понимала. Старая
англичанка пояснила ей.
— Дорогой Джемсъ служитъ въ «Intelligence
Service». Это всегда было опасно. Теперь это такая великая, полная
самопожертвованiя служба.
Ана просила поясненiй. Старая англичанка
снисходительно посмотрѣла на нее и сказала:
— Лучше спросите вашего мужа …
На другой день утромъ Ана собралась
ѣхать къ портнихѣ. Въ закрытой шляпкѣ, — изъ-подъ нея видны
были только низъ щекъ и подбородокъ, — въ дорогой шубкѣ, легко облегающей
ея тонкое, стройное, тѣло, она подошла къ зеркалу. Ея Русская борзая
слѣдовала за нею. Сѣрый мѣхъ красилъ лицо Аны. Черезъ плечо
Ана посмотрѣла на себя.
«Да, очень хорошо. И собака такъ идетъ къ ея
изящной и длинной фигурѣ. Она дополняетъ ее».
Ана погладила собаку. Она ждала мужа. Онъ долженъ
былъ ѣхать съ нею.
«Intelligence
Service» — думала Ана. — «Это на Downing Street въ Лондонѣ. Развѣдка
обо всемъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ. Говорятъ …
Много преступленiй …»
Вчера вечеромъ она сказала это мужу. Онъ
сначала разсмѣялся.
— А гдѣ въ мiрѣ нѣтъ
преступленiй? И что преступленiе, что нѣтъ, кто скажетъ?
— Господь Богъ, — тихо сказала Ана.
— Господь Богъ, — отвѣтилъ послѣ
нѣкотораго раздумья Джемсъ. — Это очень хорошо тамъ … На небѣ … На
землѣ?.. Боюсь, на землѣ нужны другiе прiемы.
— Преступленiя?..
— Можетъ быть, и то, что при извѣстномъ
взглядѣ, люди сочтутъ за преступленiе. To, что выгодно … To, что нужно …
Онъ прервалъ разговоръ. Всю ночь онъ не спалъ
и былъ очень задумчивъ. Утромъ онъ не ѣздилъ верхомъ. Ана ѣздила
одна съ наѣздникомъ мадамъ Ленсманъ мистеромъ Томпсономъ. Почему-то вспоминала,
какъ она ѣздила съ эльзасцемъ мосье Пьеромъ и какъ хорошо тотъ
ѣздилъ и какъ почему-то былъ ей дорогъ и милъ.
Она еще разъ посмотрѣла на себя.
«Да, правда, очень хороша … Но развѣ это
жизнь?.. Я хочу … я хочу … Я хочу жизни, а не прозябанiя … Я хочу подвига … Это
вѣрно потому, что во мнѣ течетъ Русская кровь. Я хочу любви
настоящей, какъ любила Анна Каренина, о которой мы теперь читаемъ съ маленькой
и милой княжной.
«Эта княжна посвятила меня въ свою тайну. Она
«сестра Братства Русской Правды». И я вотъ уже нѣсколько недѣль
тоже сестра. Я даю деньги на ту работу, что ведутъ они … и мой отецъ … У меня …
На мнѣ ихъ простой братскiй крестъ … Тутъ подвигъ, тамъ преступленiе.
Тутъ говорятъ о спасенiи родины, тамъ о томъ, что выгодно … Выгодно?.. кому? …»
Ана гордо подняла голову.
— Я — Русская.
Дверь тихо раскрылась. Въ ея спальню безъ предварительнаго
стука вошелъ ея мужъ. Она повернулась къ нему.
— Что тебѣ? — холодно и строго сказала
она. Джемсъ былъ очень хорошъ. «Что и я хороша?.. He правда-ли?.. Что же ты
ничего не скажешь?.. Ты видишь … И шубка, и шляпка, и собака … Все стиль … Я твоя
… Твоя жена … Ну прижми меня къ себѣ …. Поцѣлуй, хоть разъ въ
неурочное время. Восхитись. Сними твою холодную красивую маску», — говорили ея
глаза.
Сложная игра ея чувствъ отражалась въ ея
глазахъ. Джемсъ Холливель ничего этого не видѣлъ. Онъ былъ чѣмъ-то
сильно занятъ и озабоченъ. Безпокойный пламень горѣлъ въ его суровыхъ
стальныхъ глазахъ. Ана не замѣчала этого. Можетъ быть, она
надѣялась побѣдить его своею красотою и съ безсознательнымъ, милымъ,
дѣтскимъ кокетствомъ она сказала:
— Отчего ты не постучалъ?.. Я могла быть не
одѣта.
— Я къ тебѣ … По дѣлу,— холодно и
строго сказалъ Холливель.
— По дѣлу?.. Я слушаю.
— Я, откровенно говоря, не хотѣлъ путать
тебя въ эту исторiю. Я понимаю, что у тебя могутъ быть свои чувства … Н-но …
другихъ путей не вижу … Найти помимо тебя не удалось … Ты должна мнѣ
помочь и какъ англичанка Англiи и какъ жена мужу.
— He говори такими загадками … Я ничего не
понимаю, — сказала Ана. Ея глаза расширились отъ удивленiя. «Вотъ какъ», —
думала она. — «To я была куклой, ребенкомъ, придаткомъ, и едва ли нужнымъ, къ
таинственной жизни капитана Холливеля, имѣющаго секретный портфель съ
ключикомъ на шеѣ … Теперь я понадобилась … Ему … И Англiи … He слишкомъ
ли торжественно это звучитъ?.. У меня теперь тоже есть своя тайна. Русская
княжна меня посвятила въ общество, у котораго есть такiе крестики. И тамъ
написано: «Господи спаси Россiю» … Россiю … He Англiю … Посмотримъ» …
— Я слушаю.
— Тутъ неудобно говорить. Пойдемъ ко мнѣ
въ кабинетъ.
Ана наклонила голову и покорно прошла въ рабочiй
кабинетъ мужа, гдѣ на большомъ столѣ, среди груды газетъ и бумагъ,
лежалъ таинственный портфель. Дверь въ прихожую была притворена, другую дверь
въ столовую капитанъ Холливель плотно заперъ.
Холливель подошелъ къ столу и оперся рукою на
портфель. Ана стала у двери въ прихожую.
— Ну-съ … Ана, я говорю серьезно … И я прошу
тебя понять то, что я скажу тебѣ и отвѣтить мнѣ со всею
серьезностью. Довольно ребячества.
Ана нагнула голову. Это движенiе могло обозначать
и готовность слушать и согласiе отвѣтить на всѣ вопросы.
— Ана, пока событiя не выходили, такъ сказать,
изъ Русскихъ рамокъ, не затрагивали мiровой политики — «Downing Street» могло
молчать. Теперь это вышло за предѣлы Русскихъ интересовъ. И намъ
приходится властно вмѣшаться въ это дѣло, Ибо оно затрагиваетъ интересы
Англiи.
Мистеръ Холливель сдѣлалъ паузу. Онъ хотѣлъ,
чтобы его жена сосредоточилась и поняла его. Лицо Аны стало серьезно. Что-то
дѣтски молитвенное появилось на немъ.
— Въ Россiи большевики гибнутъ … Возможно, что
власть отъ нихъ перейдетъ въ руки Русскаго нацiональнаго правительства …
Возможно — къ Императору …
— Слава Богу!
— Ты не понимаешь, что говоришь, — съ жестокою
рѣзкостью сказалъ Холливель.
— Нѣтъ, — воскликнула Ана. Она скрестила
руки на груди. Ея глаза сiяли и горѣли внутренними огнями, въ
голосѣ дрожали слезы. — Нѣтъ … Я все отлично понимаю. Будетъ
Императоръ! He будетъ большевиковъ! Отлично понимаю. Это значитъ — прекратятся
невѣроятныя, неисчислимыя страданiя Русскаго народа, и миллiоны рабовъ
станутъ свободными. Это значитъ — прекратится неслыханное жестокое гоненiе на
христiанъ и преслѣдованiе православной вѣры … He будетъ пытокъ…
Разстрѣловъ невинныхъ … Совращенiя дѣтей … Всѣхъ этихъ
ужасовъ, которые слишкомъ долго терпѣлъ цивилизованный мiръ.
— Глупости говоришь Ана … Наслушалась эмигрантскихъ
бредней. Россiи быть не должно … Счастливымъ случаемъ … Ловкимъ ходомъ
Германской дипломатiи Россiи были навязаны большевики. Никто тогда не ожидалъ, что
это такъ удастся. Большевиками Россiя стирается съ лица земли. Никогда не
будетъ она не только сильной, но никакой Россiи не будетъ. У европейскихъ
народовъ развязываются руки для свободной, никѣмъ не стѣсненной
политики на Востокѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ громадная
первобытная страна открывается для колонизацiи … Русскихъ ожидаетъ участь
негровъ. Уничтоженiе Россiи — это величайшая проблема второй четверти
двадцатаго вѣка. Это разрѣшенiе всѣхъ нынѣшнихъ
кризисовъ, устраненiе безработицы, голода, отъ котораго страдаютъ народы
Западной Европы и въ первую очередь Англiя. И вдругъ теперь, когда, казалось,
большевики навсегда и безповоротно поработили Русскiй народъ, ведутъ его къ
физическому уничтоженiю и постепенно сами подчиняются Европѣ, рабы
поднялись противъ поработителей … На сѣверѣ Россiи формируется
армiя … По всѣмъ городамъ идутъ возстанiя … Ихъ уже не могутъ усмирять.
Доведенная до отчаянiя совѣтская республика обратилась къ европейскимъ
странамъ за помощью. Ей рѣшено помочь. Она должна всѣмъ Европейскимъ
банкамъ и надо выручить тѣ деньги, тѣ миллiарды фунтовъ и марокъ,
которыя даны совѣтской республикѣ. Въ Берлинѣ на Беренъштрассе,
въ банкѣ, гдѣ въ кладовыхъ хранились международные капиталы въ
золотѣ и валютѣ, собралось совѣщанiе международныхъ банкировъ
для обсужденiя мѣръ помощи совѣтской республикѣ. И вдругъ во
время засѣданiя неизвѣстнымъ составомъ, весь этотъ банкъ со
всѣми его кладовыми, съ банкирами и служащими былъ выжженъ до тла … Дальше
идти некуда … Это же война всему мiру!..
— Это война большевикамъ и тѣмъ, кто имъ
помогаетъ, — твердо сказала Ана.
Холливель пожалъ плечами.
— Прекрасно-съ. Война. Идти съ войсками
безсмыслица. Да и никакiя войска въ Россiю не пойдутъ… Гиблое мѣсто … Но
… мы узнали, откуда это все идетъ … У нихъ … у тѣхъ Русскихъ, кто все это
безобразiе дѣлаетъ, есть вожди и база. Надо уничтожить эту базу. Лишенное
помощи и руководства извнѣ возстанiе затихнетъ и большевики смогутъ его
подавить своими силами. Но вотъ въ чемъ бѣда. Наше безподобное
«Intelligence Service» опредѣлило, что работу противъ большевиковъ ведутъ,
— Холливель помолчалъ, выпрямился во весь ростъ и, устремивъ глаза прямо въ
голубо-зеленые ясные глаза Аны, съ силою сказалъ:
— Главарями этого возстанiя, его
руководителями … инженеръ Долле и … твой
отецъ ротмистръ Ранцевъ … Но гдѣ они устроили свою базу со всѣми
этими неслыханно ужасными смертоносными снарядами, намъ раскрыть до сего
времени не удалось. Ты, Ана, должна мнѣ помочь въ этомъ … Во имя Англiи …
Ради моей карьеры.
— Я этого не знаю.
Ана низко опустила голову. Ея грудь часто
поднималась. Волненiе ея было такъ сильно, что она едва стояла на ногахъ. Она приложила
обѣ руки къ груди, чтобы утишить бiенiе сердца. Ея лицо было очень
блѣдно. Только что она думала о Россiи и о подвигѣ и вотъ и Россiя
и подвигъ встали передъ нею въ страшной близости. Россiя блистала подвигомъ
борьбы и побѣды, и въ этомъ блескѣ на первомъ мѣстѣ
стояло имя ея отца. Она не видѣла, да если бы и увидала, не обратила бы
вниманiя какимъ гнѣвомъ зажглись глаза ея мужа при ея отвѣтѣ.
— Неправда … Ты лжешь, — уже не сдерживаясь,
закричалъ капитанъ Холливель.
— Я не лгу … И я попрошу тебя не кричать на
меня … Я къ этому не привыкла.
— Ты лжешь, — повторилъ, съ трудомъ справляясь
съ собою, Холливель. — За двѣ недѣли до того, какъ я сдѣлалъ
тебѣ предложенiе, на верховой прогулкѣ въ Булонскомъ лѣсу къ
тебѣ подъѣхалъ человѣкъ на бурой лошади.
Ана еще ниже опустила голову.
— Вы говорили по-Русски, не стѣсняясь
меня … Такъ знай же, — вдругъ переходя на Русскiй языкъ и снова повышая голосъ,
продолжалъ Холливель — я прекрасно знаю этотъ языкъ … Кто подъѣзжалъ къ
тебѣ и кого ты мнѣ представила, такъ невнятно назвавъ его фамилiю?..
Ана молчала.
— Я скажу тебѣ кто. Инженеръ Долле. Тотъ
самый, за кѣмъ мы давно слѣдимъ и кто послѣднiе годы велъ
двойную жизнь и то былъ инженеромъ Долле, то таинственнымъ капитаномъ Немо. Все
намъ извѣстно. Не думай, что своимъ укрывательствомъ ты кого-нибудь спасешь
или поможешь дѣлу. Ты сдѣлаешь лишь то, что тайну раскроетъ кто-то
другой, а не я — твой мужъ. Раскрытiе этой тайны — это не только карьера въ нашемъ
вѣдомствѣ, но и большая награда. Это имя. Это стать знаменитостью …
Ты понимаешь это … Намъ выгодно это … Выгодно
… Этимъ все сказано … Выгодно … Что же ты молчишь?.. Ты Русская, или англичанка?..
— Я — Русская, — глухимъ, придушеннымъ голосомъ
сказала Ана. — Я не знаю, гдѣ они … Да, если бы и знала … Вотъ пытай
меня, жги живою все равно никогда, никому и ни за что не выдамъ. Я всею душою
съ ними … И я люблю сперва Россiю, которой не знаю и потомъ Англiю, гдѣ я
выросла и воспиталась и которой я столькимъ обязана.
— А.. Русская, — съ глубочайшимъ
презрѣнiемъ сказалъ капитанъ Холливель.
Онъ прошелся по кабинету. Никогда онъ не выходилъ
такъ изъ себя. Въ углу, на полкѣ лежали разныя вещи, вывезенныя имъ изъ
Закавказья, когда онъ былъ въ Батумѣ на оккупацiи. Холливель остановился
у полки. Его глаза загорѣлись безумнымъ огнемъ. Онъ увидалъ кавказскую
серебряную въ черни плетку. Онъ схватилъ ее и, сжимая въ стальной рукѣ,
подошелъ къ Анѣ.
— А, Русская, — въ страшномъ гнѣвѣ
повторилъ онъ. — Рабыня!.. Ты понимаешь только языкъ кнута. Я заставлю тебя
говорить … Гдѣ скрылись инженеръ Долле и этотъ … Петръ Ранцевъ?..
Онъ поднялъ надъ головою нагайку.
— Я тебѣ говорю, — грубо крикнулъ онъ, —
отвѣчай …
Его рука медленно опустилась. Ана встрѣтила
его гнѣвный взглядъ такимъ пристальнымъ взглядомъ голубо-зеленыхъ глазъ,
что онъ не смогъ выдержать его. Изъ нихъ излучалась вся прекрасная ея душа.
Холливель понялъ, что въ этотъ мигъ онъ все потерялъ. Онъ сжался, какъ
сжимается звѣрь подъ взглядомъ укротителя.
Пятясь бокомъ, не спуская глазъ съ мужа, Ана
подошла къ двери въ прихожую, выскользнула въ нее, быстро открыла наружную
дверь и выбѣжала на лѣстницу. Собака, поднявшая шерсть дыбомъ,
слѣдовала за нею. Холливель провелъ рукою по волосамъ и быстро пошелъ къ
дверямъ. Ана уже сбѣжала внизъ. Преслѣдовать было смѣшно.
«Консьержъ … Что онъ подумаетъ?.. Вернется … Тогда поговоримъ» …
Шофферъ молча открылъ передъ Аной дверь. Ана
вскочила въ карету. Шофферъ сѣлъ у руля.
— Куда прикажете?..
— Въ La Baule, no Орлеанской дорогѣ.
— У насъ не хватитъ эссенцiи.
— Возьмемъ по дорогѣ.
— Мосье приказалъ къ пяти часамъ подать машину.
Я не поспѣю.
— Кому вы служите?
— Слушаюсь, мадамъ ….
Машина мягко тронулась и понеслась, спускаясь
къ набережной Сены. Въ большой каретѣ, въ глубокихъ мягкихъ подушкахъ, совсѣмъ
утонула худенькая, стройная женщина, забившаяся въ неистовой тоскѣ въ
самый уголъ. У ногъ ея, уткнувъ морду въ ея башмаки, легла стройная Русская борзая.
У задняго окошка безпомощно мотался «фетишъ» — арлекинъ въ бѣломъ
колпакѣ.
Сквозь мучительную боль оскорбленiя, тревогу и
заботу о близкихъ и дорогихъ и о своемъ будущемъ, неясно, неосознанно, кротко и
радостно вставало воспоминанiе о темномъ, тяжеломъ желѣзномъ восьмиконечномъ
крестикѣ, висѣвшемъ у нея на шеѣ, гдѣ на темномъ
металлѣ блистала четкая надпись чеканными бѣлыми буквами:
«Господи, спаси Россiю» …
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ОГОНЬ ПОЯДАЮЩIЙ
…«И внегда скорбѣти ми призвахъ Господа
и къ Богу моему воззвахъ: услыша отъ храма святого своего гласъ мой и вопль мой
предъ Нимъ внидетъ во уши Его.
«И подвижеся и
трепетна бысть земля и основанiя горъ смятошася и подвигошеся яко прогнѣвася
на ны Богъ.
«Взыде дымъ
гнѣвомъ его и огнь отъ Лица Его воспламенится:
углiе возгорѣся отъ Него.
«Избавитъ мя отъ
враговъ моихъ сильныхъ и отъ ненавидящихъ мя: яко утвердишася паче мене» …
«Въ
тѣснотѣ моей я призвалъ Господа и къ Богу моему воззвалъ. И Онъ
услышалъ отъ чертога Своего голосъ, и вопль мой дошелъ до слуха Его.
«Потряслась и
всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основанiя горъ; ибо разгнѣвался
Богъ.
«Поднялся дымъ отъ
гнѣва Его и изъ устъ Его огонь
поядающiй; горячiе угли сыпались отъ Него.
«Избавилъ меня отъ
врага моего сильнаго и отъ
ненавидящихъ
меня, которые были сильнѣе меня» …
Псаломъ Давида 17.
ст. 7, 8, 9 н 18.
I.
Въ одномъ нѣмецкомъ, маленькомъ,
чистенькомъ, отчасти даже курортномъ городкѣ на большихъ круглыхъ
тумбахъ, стоявшихъ на углахъ улицъ, гдѣ висѣли обыкновенно программы
курзальнаго оркестра, объявленiя гостинницъ, ресторановъ и кафе, изображенiя розоваго,
сѣдоусаго, блаженно улыбающагося человѣка съ чашкою дымящагося кофе
въ рукахъ и съ надписью «Kaffe Haag» и всякая подобная реклама мирнаго, домашняго
вида, появились однажды блѣдно-желтыя афиши. Ими объявлялось, что въ
самомъ лучшемъ кинематографѣ городка «Олимпiи» будетъ всего только два
раза показана знаменитая фильма: «Panzer Kreuzer Potemkin». Былъ обѣщанъ
«Ton-film» въ постановкѣ самого Эйзенштейна. Публика приглашалась
посмотрѣть, какъ взбунтовавшiеся матросы будутъ убивать своихъ офицеровъ. Ей
обѣщали гулъ и ревъ толпы, звуки музыки, революцiонныя пѣсни, крики
и стоны отчаянiя. Ей обѣщали, что первый разъ эта фильма пойдетъ безъ
всякихъ цензурныхъ урѣзокъ и пропусковъ. Скандалъ былъ еще въ томъ, что
по требованiю Имперскаго Reichs-Wehr-a эта фильма вообще была запрещена къ
постановкѣ въ государствахъ нѣмецкаго союза, кромѣ именно
того маленькаго бывшаго герцогства, гдѣ былъ этотъ городокъ. Соцiалистическое
правительство во iмя свободъ не нашло возможнымъ запретить постановку
революцiонной фильмы совѣтскаго производства самого Эйзенштейма.
На другой день послѣ появленiя афишъ
подлѣ нихъ были наклеены маленькiя бѣлыя афишки, гдѣ крупно
было напечатано, что граждане города приглашаются не ходить на это представленiе
и не посѣщать совѣтскихъ фильмовъ во избѣжанiе непрiятныхъ
переживанiй. Подъ этимъ приглашенiемъ стояли три никому непонятныя и никѣмъ
не расшифрованныя буквы:«В.R.W.»
Эти маленькiя афишки кѣмъ-то срывались
по ночамъ, но неизмѣнно къ утру на ихъ мѣстѣ появлялись
новыя. Полицiя и жители городка ломали головы надъ тѣмъ, кго могъ ихъ
напечатать. Шрифтъ приглашенiя былъ такой, какого не было въ единственной
мѣстной типографiи. Это былъ старинный тяжелый готическiй шрифтъ, точно
соскочившiй съ деревяннаго набора Гуттенберга. Такiе шрифты еще можно было
найти въ Iенѣ или въ Лейпцигѣ. Сначала подозрѣнiе упало на
Хитлеровцевъ. Но отъ этого скоро пришлось отказаться. Хитлеровцы
непремѣнно поставили бы сверху свой поруганный крестъ «свастику», да и
анонимныя воззванiя не были въ ходу у нихъ.
Эти афиши, какъ большiя, большевицкiя на желтой
бумагѣ, такъ и маленькiя, предостерегающiя, анонимныя, сдѣлали то,
что въ день показа фильмы, несмотря на удвоенныя цѣны, кинематографъ
ломился отъ зрителей. He только приставныя мѣста были всѣ заняты,
но и сзади стояла большая толпа. Много было мѣстной молодежи въ рабочихъ
каскеткахъ, въ рубашкахъ съ небрежно повязанными красными галстухами, со значками
серпа и молота на булавкахъ, въ распахнутыхъ пиджакахъ, а то и совсѣмъ
безъ нихъ и стриженныхъ дѣвицъ съ жирными ляжками и толстыми голыми икрами
въ короткихъ обтянутыхъ платьяхъ. Но, сзади въ ложахъ и въ «шперръ зицъ», была
и болѣе солидная публика. Тамъ сидѣли богато одѣтыя дамы,
мужчины въ смокингахъ и черныхъ визиткахъ … Это были снобирующiе иностранцы,
кого, какъ породистую собаку на гнiющую падаль, влекли такого рода
зрѣлища, гдѣ пахло политическимъ скандаломъ.
Въ зрительномъ залѣ стоялъ глухой гулъ.
Весь залъ имѣлъ видъ «гала» представленiя. Несмотря на то, что по
стѣнамъ висѣли плакаты: «rauchen ist polizeiscb verboten», впереди
вздымались дымки и попыхивали вонючiя папироски. Совѣтская фильма еще не
началась, а уже разлагающе дѣйствовала на толпу. Смѣхъ, нечеловѣческое
фырканiе и точно ржанiе раздавались въ театрѣ. Ждали совсѣмъ
особеннаго наслажденiя зрѣлищемъ звѣрскихъ убiйствъ.
Фильма началась при полной тишинѣ.
Зрители увидали прекрасный броненосецъ, чистыхъ, щеголевато одѣтыхъ
матросовъ въ ихъ характерныхъ Русскихъ безкозыркахъ съ ленточками, красивыхъ,
ловкихъ офицеровъ и капитана съ благообразнымъ лицомъ въ черной
сѣдѣющей бородѣ. Шли обычныя утреннiя работы на
броненосцѣ. Раздавались команды, звонили склянки, свистали боцманскiя дудки.
Миръ и тишина были на кораблѣ. Яркая панорама бѣлой, лѣзущей
на гору Одессы, залитой солнечными лучами, стояла за нимъ.
Все это казалось красивой сказкой
невозвратнаго прошлаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ каждый чувствовалъ,
что это то и была подлинная правда старой «Царской» жизни Русскаго военнаго
корабля. Среди зрителей даже удивлялись, что совѣты могли такъ поставить.
Потомъ … Что-то тревожное прошло по кораблю.
Щелкая босыми пятками, пробѣжали матросы. Дѣловито прошелъ каптенармусъ,
боцманъ побѣжалъ съ докладомъ, слышались, какъ всегда въ звуковой
фильмѣ, неестественные глухiе, точно и нечеловѣческiе голоса,
кто-то сочно выругался и въ переднихъ мѣстахъ театра раздался довольный
смѣхъ и гоготанiе. На кухню, въ кубрикъ, неторопливой походкой прошелъ
судовой врачъ, загримированный подъ Чехова. За нимъ шелъ, пожимая плечами,
старшiй офицеръ.
Въ привезенномъ для обѣда матросамъ
мясѣ копошились крупные черви.
Все наростая шелъ по броненосцу гулъ возбужденной
толпы. Матросы выбѣгали на бакъ. Грозные выкрики раздавались оттуда.
Фильма была поставлена на нѣмецкомъ языкѣ и значенiе угрозъ было
понятно зрителямъ. Офицеры собрались на палубѣ. Команды неторопливо и съ
ропотомъ строились. Боцмана и каптенармусы стали на правомъ флангѣ.
Вышелъ командиръ и обходилъ команду. Шелъ опросъ. Все было такъ, какъ должно
было итти на всякомъ благоустроенномъ кораблѣ, ибо вездѣ въ жаркую
погоду могло произойти такое досадное происшествiе.
Матросы не удовлетворились заявленiемъ капитана.
Надъ разорвавшимся строемъ поднялись черные кулаки и кто-то изъ команды сталъ
говорить страстную возбуждающую рѣчь. Офицеры взошли на мостикъ. Былъ
вызванъ караулъ. Отдана команда стрѣлять по взбунтовавшимся матросамъ … И
вдругъ изъ тысячи глотокъ грянулъ «интернацiоналъ» … Настала напряженнѣйшая
минута представленiя. Зрители живо переживали ее. Въ переднихъ мѣстахъ
подпѣвали интернацiоналу. Съ минуты на минуту ожидали кровавой расправы матросовъ
надъ офицерами. Караулъ опустилъ ружья. Въ матросской толпѣ появились
вооруженые люди, и какой-то штатскiй на языкѣ, отзывавшемъ жаргономъ, началъ
говорить рѣчь. Ея смыслъ былъ — убiйство и бунтъ …
И вотъ тутъ-то и произошло нѣчто
странное. Сзади, тамъ, гдѣ тѣсною толпою стояли люди, кто-то весело,
отъ души разсмѣялся.
На него злобно шикнули. Раздались негодующiе,
озлобленные выкрики. Но къ смѣющемуся присоединился другой, третiй и
черезъ какую-нибудь минуту, — пѣнiе на экранѣ «интернацiонала» еще
не успѣло смолкнуть, — весь залъ хохоталъ какимъ-то спазматическимъ,
ненатуральнымъ страннымъ смѣхомъ. Хохоталъ и операторъ. Моторъ
остановился. Интернацiоналъ умолкъ. Изображенiе матросской толпы застыло и
исчезло. Хохочущая, хватающаяся отъ смѣха за животъ дѣвица-капельдинеръ,
догадалась пустить свѣтъ.
Странное, дикое зрѣлище представлялъ изъ
себя зрительный залъ. Всѣ въ немъ хохотали. Одни, недвижно откинувшись на
спинки креселъ, другiе, чуть не катаясь отъ смѣха. Поняли, что это
смѣхъ болѣзненный, чѣмъ-то вызванный.
Потомъ, на допросѣ, нѣкоторые
показывали, что будто чѣмъ-то кислымъ пахнуло, и они тогда не могли
сдержать вдругъ подступившаго припадка смѣха. Щеки свело спазмой, ротъ
непроизвольно открылся и смѣхъ до слезъ овладѣлъ ими.
Представленiе было прервано. Публика, все
продолжая неудержимо хохотать, выходила изъ театра. И долго по тихимъ улицамъ
городка, раздавалось на разные тона, то грубое мужское: «хо-хо-хо», то
визгливое, истерическое женское: «хи-хи-хи» …
Совѣтскiй фильмъ былъ сорванъ. Другое
его представленiе не состоялось.
Не было никакого сомнѣнiя, что кто-то
пустилъ въ залъ газъ, вызывающiй смѣхъ. Но кто?.. Хитлеровцы?..
Католики?.. Не въ мѣру усердный офицеръ Рейхсвера?..
Въ тѣ дни Германiя раздиралась партiйною
борьбою, и отъ каждой партiи можно было ожидать такой выходки.
Это было во взбудораженной Германiи,
утратившей хладнокровiе и чувство порядка. Но такiе болѣзненные припадки
смѣха стали овладѣвать зрителями вездѣ, гдѣ ставили
совѣтскiя фильмы. Такъ же точно до неприличiя дико смѣялись въ
Парижѣ, на Елисейскихъ поляхъ, гдѣ вздумали показывать «Бурю надъ
Азiей», такъ же хохотали на большихъ бульварахъ на «Желтомъ билетѣ» и на
«Деревнѣ грѣха». Будто въ видѣ безплатнаго приложенiя къ
совѣтской фильмѣ давалась большая порцiя совсѣмъ нездороваго
смѣха, послѣ котораго приходилось долго и основательно
лѣчиться.
Фильмы «Сов-кино» исчезли изъ репертуара Европейскихъ
кинематографовъ.
Эти странныя исторiи не только съ фильмами, но
и вообще со всѣми предметами совѣтскаго производства стали происходить
повсюду и охватывать положительно всѣ отрасли совѣтской
промышленности.
Люди, «покушавшiе» совѣтской
свѣжей, или паюсной икры, точно вдругъ приняли здоровую порцiю кастороваго
масла. Дѣйствiе бывало почти моментальное, что при многолюдныхъ парадныхъ
обѣдахъ и собранiяхъ, съ дамами и барышнями, и въ большихъ ресторанахъ
вызывало скандальныя катастрофы. Пробовали посылать жестянки съ икрою на
химическое изслѣдованiе, но ничего не могли обнаружить. Такое же
дѣйствiе оказывали конфеты «Моссельпрома», консервы фабрики «Пищевикъ»,
наливки «Старъ», словомъ, все то, что ввозили въ Европу «Аркосъ», всевозможные
«Амторги», «Дерутра» и просто совѣтскiя Торгпредства. И не только
продукты пищевые были гдѣ-то заражены и испорчены, но были испорчены и
такiе, казалось бы громоздкiе предметы, какъ бревна. Ихъ ставили подъ дорогiя
механическiя пилы. Пила врѣзалась въ нихъ, какъ въ масло и вдругъ
разлеталась на куски, какъ стеклянная. Глубоко въ бревно былъ забитъ стальной
клинъ. Совѣтская нефть сама воспламенялась — и были случаи гибели
аэроплановъ и подводныхъ лодокъ, были пожары на судахъ и страшныя крушенiя
автомобилей. Совѣтская торговля замерла.
У нея оказались «вредители».
И это уже не были вредители инженеры, кого совѣтская
власть привлекала къ показательному суду и безпощадно разстрѣливала, это
не были маленькiя группы совѣтскихъ ученыхъ, не могшихъ преодолѣть
развала совѣтскаго производства, — это были невидимые, неуловимые
вредители, вся масса совѣтскихъ гражданъ рабочихъ.
Гдѣ-то … Гдѣ?.. Вездѣ … На
промыслахъ и фабрикахъ … Въ упаковочныхъ мастерскихъ … На товарныхъ станцiяхъ …
Въ вагонахъ желѣзной дороги, въ товарныхъ складахъ …. Въ пароходныхъ
трюмахъ … Въ иностранныхъ складахъ или въ лавкахъ … Чортъ ихъ знаетъ
гдѣ.. Возможно — вездѣ — сидѣли люди, такъ искусно портившiе
товары совѣтскаго производства, что никто не могъ ихъ поймать. Кто были
эти люди? … Ихъ, очевидно, были тысячи … Это былъ весь Русскiй народъ,
ненавидящiй лютой ненавистью большевиковъ. Эта ненависть коммунистическихъ
рабовъ къ своимъ господамъ не была новостью для совѣтскаго правительства.
Оно ее знало. Оно, сознавая ее, обезвредило народъ. Прикрѣпило его къ
фабрикамъ и заводамъ, загнало въ крѣпостные кол-хозовъ. Большевики
отлично понимали, что народъ ничего не можетъ сдѣлать вреднаго для нихъ
безъ основательной помощи извнѣ. Кто-то, значитъ, извнѣ снабжалъ
эти тысячи вредителей совсѣмъ особенной, утонченной, еще никому
неизвѣстной «химiей». Кто-то снабжалъ политическихъ каторжанъ на
лѣсныхъ разработкахъ стальными клиньями и научилъ ихъ незамѣтно
загонять въ дерево. Кто-то, притомъ же совершенно невидимый и неуловимый,
заграницей ходилъ по кинематографамъ и пускалъ газы. Кто-то подмѣшивалъ
къ нефти составъ, заставлявшiй ее взрываться. Этотъ невидимый «кто-то» былъ
вездѣ.
Были ли это «капиталисты», вздумавшiе такимъ
образомъ бороться съ надоѣвшимъ и подрывавшимъ ихъ торговлю дампингомъ,
были ли это «бѣло-бандиты», было это таинственное Братство Русской
Правды?.. Совѣтское внутреннее и заграничное Гепеу разрывались на части
въ поискахъ виновныхъ. Совѣтское правительство снеслось съ «Intelligence
Service» въ Лондонѣ и съ «Sureté Générale» во
Францiи, прося ихъ оказать содѣйствiе.
Въ самый разгаръ разслѣдованiй, не
приводившихъ ни къ какимъ результатамъ, опытный англiйскiй агентъ, капитанъ
Холливель, прилетѣвшiй всего на два часа изъ Парижа въ Лондонъ на
аэропланѣ, сдѣлалъ на Downing Street докладъ, гдѣ доказалъ,
что между отплытiемъ изъ Сенъ-Назера парохода «Немезида» съ статистами труппы
кинематографическаго общества «Атлантида» и событiями, въ корень подрывавшими
торговлю и международный авторитетъ Совѣтской республики есть
несомнѣнная связь. По его мнѣнiю, — «Немезида» не могла погибнуть.
Гибель ея была инсценирована, ибо, если бы въ Атлантическомъ океанѣ
погибло такое большое судно, гдѣ-нибудь, въ водахъ ли, на берегу ли, были
бы найдены какiе-нибудь предметы съ погибшаго парохода: спасательные буйки,
трупы утонувшихъ людей, скамейки, шлюпки и т. п. «Немезида» же исчезла, не
оставивъ по себѣ слѣда. По его настоянiю были обысканы острова
Галапагосъ. Но и тамъ не было найдено ничего подозрительнаго. Капитанъ
Холливель настаивалъ на необходимости во что бы то ни стало отыскать, куда же
дѣвались люди такъ таинственно исчезнувшiе.
Докладъ капитана Холливеля произвелъ
впечатлѣнiе. Какъ ни мала была группа статистовъ общества «Атлантида»,
она оказывала большое дѣйствiе. Она разрушала Совѣтскую республику.
Въ Европѣ понимали, что гибель большевиковъ въ Россiи могла
предвѣщать возстановленiе Россiйской Имперiи. Этого нельзя было
допустить. Съ уничтоженiемъ въ Россiи большевицкаго режима падала вся проблема
спасенiя рабочихъ Европейскихъ странъ. Они теряли громадную, уже вымирающую
страну, подлежащую заселенiю. Еще того болѣе были взволнованы капиталисты
и банкиры. Крахъ громадныхъ предпрiятiй, связанныхъ съ совѣтами, пугалъ
Европейскiя правительства. Были созваны чрезвычайныя конференцiи для
разрѣшенiя вопроса помощи большевикамъ и выручки ихъ.
Ш.
Въ «Запискахъ изъ Мертваго дома» Достоевскаго
описана страшная «Николаевская» каторга. Нельзя безъ содроганiя читать эту
книгу. Бритыя наполовину головы каторжниковъ, клейменые лбы, спины, исполосованныя
ударами палокъ и плетей, рубцы, проступающiе въ банѣ, на пару, какъ
свѣжiя раны, звонъ кандаловъ … И за всѣ годы каторги, сколько бы
ихъ ни было, человѣкъ ни на одну минуту не остается одинъ … «На работѣ
всегда подъ конвоемъ, дома съ двумя стами товарищей и ни разу, ни разу — одинъ»
… …«Кромѣ вынужденной работы, въ каторжной жизни есть одна мука, чуть ли
не сильнѣйшая, чѣмъ всѣ другiя. Это вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и
въ другихъ мѣстахъ, но въ острогъ-то приходятъ такiе люди», — пишетъ
Ѳ. М. Достоевскiй, — «что не всякому хотѣлось бы сживаться съ ними,
и я увѣренъ, всякiй каторжный чувствовалъ эту муку, хотя, конечно,
большею частью, безсознательно.» …Для
лицъ образованнаго класса, семейнаго воспитанiя, культуры, если и не очень
утонченной, то все-таки не каторжной, ко всему этому прибавлялись совершенно
особыя — именно каторжныя, ужасныя, нравственныя мученiя. — …«Скажу одно: — что нравственныя лишенiя
тяжелѣе всѣхъ мукъ физическихъ. Простолюдинъ, идущiй на каторгу,
приходитъ въ свое общество, даже, можетъ быть, еще въ болѣе развитое. Онъ
потерялъ, конечно, много — Родину, семью, все, но среда его остается та же.
Человѣкъ, образованный, подвергающiйся по законамъ одинаковому наказанiю
съ простолюдиномъ, теряетъ часто несравненно больше его. Онъ долженъ задавить
въ себѣ всѣ свои потребности, всѣ привычки, перейти въ среду
для него недостаточную, долженъ прiучиться дышать не тѣмъ воздухомъ. Это
рыба, вытащенная изъ воды на песокъ … И часто для всѣхъ одинаковое по закону
наказанiе обращается для него въ десятеро мучительнѣйшее. Это истина..
Даже если бы дѣло касалось однихъ матерiальныхъ привычекъ, которыми надо
пожертвовать» …
Но все-таки «Мертвый домъ» былъ прежде всего домъ, и притомъ населенный живыми
людьми. Въ немъ были комнаты, или палаты, въ немъ были покои, отдѣльныя
кухни и въ нихъ старшiе изъ арестантовъ и надсмотрщики-инвалиды. Въ покояхъ
были деревянныя нары, на которыя не запрещалось положить тюфячокъ и подушку,
завести себѣ свое
одѣяло. У каторжниковъ была собственность — сундучки съ замками,
гдѣ хранилось ихъ благопрiобрѣтенное имущество и кое-какой
инструментъ, потому что всѣ каторжники въ свободное время, а зимою особенно
его было достаточно, занимались своимъ дѣломъ. Они зарабатывали свои
деньги. Они были въ теплѣ и сыты. Пища была достаточная и приличная, а
хлѣбъ славился и за острогомъ. Они были одѣты въ каторжное платье,
они ходили въ ужасную баню, и когда доходило дѣло до какой-то черты —
они, — правда, съ опасностью наказанiя — «гуляли», то-есть пьянствовали …
Да … «шумъ, гамъ, хохотъ, ругательства, звукъ
цѣпей, чадъ и копоть, бритыя головы, клейменыя лица, лоскутныя платья,
все — обруганное, ошельмованное … да, живучъ человѣкъ … Человѣкъ
есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его опредѣленiе»
…
Въ «Мертвомъ Домѣ» были люди, знавшiе за
собою вину, совершившiе преступленiе. Можетъ быть, не сознавшiеся въ немъ, не
раскаявшiеся и не раскаянные, какъ они сами про себя говорили: — «мы — народъ
грамотный» …, «мы погибшiй народъ …. Не умѣлъ на волѣ жить, теперь
ломай зеленую улицу, повѣряй ряды …. Не слушался отца и матери,
послушайся теперь барабанной шкуры. Не хотѣлъ шить золотомъ, теперь бей
камни молотомъ». Какъ ни куражились они, какъ ни фанфаронили, ни «держали свою
линiю», какъ ни форсили — душа ихъ была надломлена преступленiемъ — «арестанты
почти всѣ говорили ночью и бредили. Ругательства, воровскiя слова, ножи,
топоры чаще всего приходили имъ въ бреду на языкъ. «Мы народъ битый», —
говорили они — «у насъ нутро отбитое, оттого и кричимъ по ночамъ» …
Собранные на каторгу со всей Россiи они не
сживались никогда, и сплетни, кляузы, интриги и доносы между ними
процвѣтали. «Чортъ трое лаптей сносилъ, прежде чѣмъ насъ собралъ въ
одну кучу», — говорили они про себя сами, а потому сплетни, интриги, бабьи
наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первомъ планѣ въ этой
кромѣшной жизни. Никакая баба не въ состоянiи была быть такой бабой, какъ
нѣкоторые изъ этихъ душегубцевъ» … «Въ острогѣ доносчикъ не
подвергается ни малѣйшему униженiю, негодованiе къ нему даже немыслимо.
Его не чуждаются, съ нимъ водятъ дружбу, такъ что, если бы вы стали въ
острогѣ доказывать всю гадость доноса, то васъ бы совершенно не поняли» …
Таковъ былъ «Мертвый домъ», описанный Достоевскимъ.
«Человѣкъ есть существо, ко всему
привыкающее» — но къ тому, что творилось на большевицкой каторгѣ, никто и
никогда не могъ привыкнуть. Это не былъ даже «Мертвый домъ», — и прежде всего потому,
что по существу никакого тутъ дома и
не было.
На берегу широкой, полноводной, холодной
рѣки, быстрыми, зеленоватыми струями несущейся къ студеному морю, большую
часть года замерзшей, на опушкѣ громаднаго лѣса, наскоро, грубо и
криво были накопаны ушедшiя въ землю землянки. Жалкiя трубы жалкихъ печей не
могли прогрѣть ихъ холодную сырость, и въ нихъ было всегда холодно и
мглисто. Зимою вода въ нихъ замерзала. Арестанты согрѣвались животнымъ
тепломъ. Въ этихъ землянкахъ было нѣкоторое подобiе наръ, но этихъ наръ
не хватало и на половину помѣщенныхъ въ нихъ людей, и арестанты валялись
вездѣ: на полу, въ проходахъ, подъ нарами. Если въ «Мертвомъ домѣ»,
описанномъ Достоевскимъ, воздухъ былъ ужасенъ «какой-то мефическiй», особенно
по утрамъ, то здѣсь по настоящему не было воздуха. Его не хватало на
всѣхъ обитателей землянокъ. Страшный смрадъ и вонь стояли въ землянкахъ.
Отъ нихъ на смерть задыхались люди … He было утра, когда изъ землянки не таскали
бы умершихъ. Здѣсь жизнь была невозможна. Люди, шатаясь, выходили по
утрамъ на работы, они получали урокъ, и они знали, что имъ никогда не выполнить
этого урока. Онъ былъ выше ихъ силъ. И тогда — сѣченiе каленымъ шомполомъ,
клейменiе горячимъ желѣзомъ, звѣрскiя убiйства, сопровождаемыя
такими кошмарными подробностями, когда разстрѣлъ уже считался роскошью.
И ни минуты наединѣ!.. Тутъ было не
двѣ сотни арестантовъ, какъ въ «Мертвомъ домѣ», но въ такихъ же
холодныхъ, сырыхъ и смрадныхъ землянкахъ помѣщались десятки тысячъ
мужчинъ, женщинъ и дѣтей. Населенiе цѣлой губернiи было собрано со
всей Россiи и брошено сюда на умиранiе.
Теплая вода съ капустными листьями, съ плавающей
въ ней вонючей воблой, окаменѣлый, похожiй на глину, даже и въ водѣ
не размякающiй хлѣбъ — были ихъ пищей. Они не имѣли ничего своего и
не могли заниматься своими работами. Ихъ одѣвали въ платье и бѣлье,
снятое съ загнивающихъ труповъ, надъ ними издѣвались надсмотрщики
чекисты. Среди чекистовъ было щегольствомъ, своеобразнымъ шикомъ, выдумать
особенное нравственное мученiе, изобрѣсти острую физическую боль, унизить
и оплевать человѣка.
Чекисты складывали обнаженные трупы у входа въ
женскую уборную и держали ихъ тамъ до полнаго гнiенiя. Они тщательно наблюдали
за поднадзорными и, если замѣчали какой-то проблескъ радости у арестанта,
— они доискивались причины ея и уничтожали ее.
Это было совершенное подобiе ада. Никакая фантазiя
не могла выдумать болѣе совершенныхъ мученiй для человѣка. Самъ дьяволъ
смутился бы отъ совершенства человѣческой подлости и гнусности, отъ
смѣси жестокости и наглости, изобрѣтенныхъ большевиками для своихъ
каторжанъ.
Когда въ мутномъ сѣверномъ
разсвѣтѣ, босые, въ опоркахъ, въ лаптяхъ, въ какихъ-то остаткахъ
бывшей когда-то обуви эти люди, звеня кандалами, тянулись въ
лѣсъ, чтобы
рубить и пилить деревья, и кругомъ нихъ шли чекисты охраны съ ружьями, въ
теплыхъ полушубкахъ и шапкахъ — казалось, что идутъ одни чекисты, а между ними
страшнымъ призракомъ тянется сѣрое видѣнiе изможденной толпы
мучениковъ, скользитъ и колеблется, будто безплотное. Странно было думать, что
эти люди идутъ работать. Какъ могли они работать, когда, казалось, въ нихъ не
оставалось и малой искры жизни?
У каторги «Мертваго дома» были свои
пѣсни, она даже устраивала спектакли. Эта каторга не пѣла. Она не
слагала своихъ арестантскихъ каторжныхъ пѣсенъ. Она никогда и никакъ не
«гуляла». Она быстро и вѣрно вымирала, и одни, хороня другихъ, знали, что
и ихъ ждетъ такое же закапыванiе въ землю безъ обряда и молитвы, какъ падали.
И при всемъ томъ всѣ они сознавали, что
они то менѣе всего походили на каторжниковъ. За ними не было никакого
преступленiя, и никакъ не могли они себя назвать въ этомъ отношенiи: «грамотными». Они не были «погибшимъ
народомъ», они умѣли — и еще какъ! — жить на волѣ. Были среди нихъ
богатые, степенные мужики, крѣпкiе хозяева, трудолюбивые земледѣльцы,
купцы и ремесленники, были офицеры, инженеры, профессора, учителя … Они
«слушались отца и матери» — за что же выпало на ихъ долю теперь — слушаться
«барабанной шкуры»? Они «шили золотомъ» — они работали и трудились — такъ за
что же ихъ теперь послали «бить камни молотомъ»?..
Жестокая эта несправедливость, зло, казалось,
вопiющее къ небу ихъ постоянно мучило, терзало и оскорбляло, но оно же давало
неизсякаемую надежду, чистую, глубокую вѣру, что все это простое
недоразумѣнiе и что это неизбѣжио должно имѣть конецъ. Добро
должно восторжествовать надъ зломъ. Они были сосланы на большiе сроки и
видѣли, что тутъ рѣдко кто и годъ выживаетъ, а все ждали правды
Божiей, своего — просто чудеснаго освобожденiя. Наканунѣ смерти изсохшiй,
изголодавшiйся совѣтскiй каторжникъ, трясущiйся въ послѣдней
лихорадкѣ, жадно глядѣлъ вдаль, за рѣку, гдѣ по низкому
берегу ледяной вѣтеръ мелъ песокъ и шевелилъ голыми прутьями жидкой
осоки, и ждалъ, ждалъ, ждалъ чуда освобожденiя, прихода созданныхъ долгими
мечтами «бѣлыхъ» …
IV.
И все-таки тутъ — жили.
Въ три часа ночи, когда вся казарма-землянка
была погружена въ мертвый, кошмарный сонъ, когда воздухъ былъ такъ тяжелъ и
густъ, что, казалось, выпретъ узкiя, запотѣлыя стекла изъ рамъ, или подниметъ
тяжелую, землею заваленную крышу, въ углу казармы внезапно чиркала спичка,
вспыхивала синимъ бродячимъ пламенемъ совѣтская сѣрянка, мигала,
качаясь и разгораясь и, наконецъ, зажигала свѣчу.
Это Ѳома Ѳомичъ Ѳоминъ
садился читать запрещенную книгу — Библiю. И сейчасъ же, точно, кто ихъ
растолкалъ, поднимались его сосѣди — Венiаминъ Германовичъ Коровай, Бруно
Карловичъ Бруншъ, Сергѣй Степановичъ Несвитъ, Гуго Фердинандовичъ Пельзандъ,
Владимiръ Егоровичъ Селиверстовъ и Селифонтъ Богдановичъ Востротинъ.
И здѣсь, какъ въ «Мертвомъ домѣ», не
было принято говорить, за что кто сидѣлъ, но совсѣмъ по другой
причинѣ. Прежде всего почти никто и самъ не зналъ, за что его сослали.
Здѣсь тоже доносы, интриги и сплетни процвѣтали, а многiе тутъ жили
подъ чужими именами и тщательно скрывали свое прошлое, ибо весьма часто это
прошлое грозило смертью. Такъ Коровай никому не открывался, что въ прошломъ онъ
былъ уѣзднымъ исправникомъ, Бруншъ никому не разсказывалъ, что онъ —
профессоръ физики, юноша, мальчикъ Несвитъ — братъ Русской Правды, у Пельзандта
былъ свой аптекарскiй магазинъ, Селиверстовъ въ Великую войну командовалъ
батареей, а Востротинъ былъ богатый и домовитый казакъ.
Къ этой зажигаемой въ глубокой ночи
Ѳоминымъ свѣчкѣ ихъ всѣхъ влекла жажда услышать
какое-то другое слово, а не вѣчную дневную ругань и свары каторжанъ и
чекистовъ. Ихъ влекъ къ себѣ и особенный, не похожiй на другихъ характеръ
Ѳомы Ѳомича. Ѳоминъ никого и ничего не боялся, открыто
говорилъ всякому все, что было у него на душѣ и полнымъ равнодушiемъ,
даже какимъ-то восторженнымъ отношенiемъ къ пыткамъ и наказанiямъ сражалъ
самыхъ свирѣпыхъ чекистовъ. Съ нимъ было прiятно поговорить, онъ такъ просто
и откровенно высказывалъ и «исповѣдывалъ» свою ничѣмъ непоколебимую
вѣру въ Бога и Его милосердiе. Онъ все говорилъ безъ совѣтской
утайки, безъ вранья и оглядки.
Онъ появился на каторгѣ только
лѣтомъ, и не всѣ знали его исторiю.
— Вы спросите его, Бруно Карловичъ, — шепнулъ
профессору Коровай, — какъ онъ сюда попалъ. Казалось бы простая совѣтская
исторiя, а такъ онъ ее разскажетъ — театра никакого не надо.
— А онъ не обидится?
— Что вы! Простой совсѣмъ
человѣкъ. Очень обязательный.
Профессоръ спросилъ.
— Я то съ?.. Вы спрашиваете за что? — быстро и
дѣйствительно очень охотно отозвался Ѳоминъ. Все его лицо, въ
сѣдыхъ космахъ бороды, освѣщенное снизу свѣчою, покрылось сѣтью
маленькихъ морщинъ. — Прежде всего, сударь, надо вамъ сказать, кто я есть? Ибо
съ этого моего происхожденiя и вышла вся моя печальная исторiя. А есть я —
Ѳома Ѳомичъ Ѳоминъ, и наше имя во всѣ роды черезъ
ѳиту писалось … И родитель мой и всѣ наши были, что называется, съ
ѳитою. Сестрица у меня Ѳекла, а дѣдушка Ѳедоръ, сами,
при своемъ образованiи, понимаете, какъ должны такiя имена изображаться. Вотъ
съ этой самой ѳиты и начались всѣ мои несчастiя.
Ѳома Ѳомичъ помолчалъ немного,
пожевалъ губами и добавилъ съ какою-то печальною укоризною:
—Они меня, знаете, черезъ ферта прописали.
— Ну и что же дальше? — сказалъ профессоръ,
когда Ѳоминъ не сталъ продолжать свой разсказъ.
— Такъ вотъ въ виду, знаете, такой ихъ
неделикатности, пошелъ я въ комиссарiатъ объясняться. Тамъ, знаете, молодой
такой человѣкъ и говоритъ мнѣ, что ѳита, молъ, еще при временномъ
правительствѣ упразднена, нѣтъ, значитъ, совсѣмъ ѳиты.
Я, васъ гражданинъ, спрошу, что развѣ можно человѣка упразднить,
если онъ, и отецъ его, и весь родъ его съ ѳиты начинается?.. Конечно же
нельзя. Всякiй это понимаетъ. Я имъ все это и разъяснилъ. А тотъ, знаете,
человѣкъ, что онъ про себя изображаетъ, Богъ одинъ знаетъ, грубо и нагло,
съ нахрапомъ сталъ на меня кричать: — «мы можемъ и тебя самого упразднить,
ежели много тутъ разговаривать будешь». Я имъ и говорю: «отлично я васъ понимаю,
что вы можете къ стѣнкѣ поставить и человѣка вывести въ
расходъ, но фамилiи уничтожить вы никакъ не можете, на это у васъ уже
нѣтъ власти, и она какъ была, такъ и остаться должна съ ѳитою …
Вотъ съ этого и стали они, знаете, меня преслѣдовать. He понравился
видно, я имъ. Кто я? Кронштадскiй мѣщанинъ и имѣлъ даже свою
мелочную лавочку на Зеленной улицѣ. Скажите, можно развѣ упразднить
и то, что я мѣщанинъ? Это можетъ сдѣлать только царь или, если по
суду — лишенiе правъ. Они, знаете, мою лавку упразднили, можно сказать, въ два
счета-съ. Просто сказать — разграбили. Это мнѣ очень даже понятно. Когда
революцiя, когда генералы царя арестовали — тогда что же!.. Мелочную лавку
разграбить тогда за милую душу, конечно, можно. На это у меня къ нимъ претензiи
никакой даже нѣтъ. Народъ, значитъ, гуляетъ, свои права взялъ. Мнѣ
его права очень понятны: гуляй, пьянствуй, на твоей улицѣ праздникъ.
Капиталъ у меня, однако, былъ припрятанъ. Я перемогся, выждалъ, знаю, все одно
безъ меня никогда не обойдутся. Какъ можетъ быть государство безъ
мѣщанина? Вижу, съ голоду пухнетъ по городамъ народъ. Торговля —
мнѣ дѣло съ измалолѣтства знакомое. Занялся я
мѣшечничествомъ. Черезъ короткое, значитъ, время и этого оказывается
нельзя. На вокзалахъ пошли обыски, даже, правду сказать, разстрѣливали за
это … Значитъ — упразднили они и мѣшечниковъ.. Я опять малое время
перебился, потому понимаю, что все это временно и безъ торговли они все равно
никакъ не проживутъ. И точно-съ скоро появились то, что называется «частники».
Ну и я сталъ, зна-читъ, «частникомъ» … Названiя какiя ни придумывай, дѣло
остается одно — торговля, дѣло мнѣ хорошо знакомое. Я свое
дѣло понималъ, кому надо дать —давалъ, нельзя въ нашемъ дѣлѣ
безъ этого.. Но-о, — Ѳома Ѳомичъ тяжко вздохнулъ, — но, упразднили
они, значитъ, и частника. Остался я безъ дѣла и сталъ по завѣту отцовъ
и дѣдовъ нашихъ писанiе читать. Опять же книгу священную Библiю читать
надо умѣючи. Вотъ они говорятъ, — Ѳома Ѳомичъ кивнулъ на
профессора Брунша, что это есть только исторiя Еврейскаго народа …. Это по ихъ,
такъ сказать, свободомыслiю такъ только имъ представляется. Эта книга есть
пророческая, и на всѣ времена и вѣки отвѣчающая книга. He всякому,
конечно, дано понимать, что къ чему отношенiе имѣетъ, однако, имѣлъ
я случай убѣдиться, что тамъ и всѣ наши теперешнiя дѣла
ранѣе предусмотрѣны.
— Вы намъ прочтите, что вы тамъ про Сталина и
Ленина нашли.
— Это Венiаминъ Германовичъ, я съ большимъ даже
удовольствiемъ прочту, потому, что такъ оно и будетъ. Непреложная это истина.
Ѳома Ѳомичъ досталъ изъ подъ
тряпья довольно отрепанную книгу, перекрестился, поцѣловалъ ее, отлистнулъ,
видимо хорошо ему знакомое мѣсто и, нагнувшись къ страницамъ, приготовился
читать, но вдругъ поднялъ голову. Блаженно счастливая улыбка появилась на его
изборожденномъ морщинами лицѣ.
— Мнѣ это мѣсто очень даже
памятно, потому я за это самое мѣсто и здѣшнюю каторгу отбываю.
Какъ, значитъ, прочелъ я его, меня словно что окрылило. Долженъ я или нѣтъ
властямъ предержащимъ предупрежденiе сдѣлать о томъ, какая имъ опасность
угрожаетъ. Вотъ, знаете, взялъ я Библiю и пошелъ въ Райсовѣтъ нашего
центральнаго района, въ камеру помпрокурора, на Гражданскую улицу, въ № 26.
Приняли меня незамедлительно, потому я прямо сказалъ, что имѣю доложить
объ опасности, угрожающей властямъ предержащимъ. Развернулъ я книгу и сталъ имъ
читать и толковать.
Ѳома Ѳомичъ нагнулся надъ Библiей
и началъ торжественно и тихо читать, медленно выговаривая слово за словомъ:
— «Валтасаръ царь сотвори вечерю велiю вельможамъ
своимъ тысящи мужемъ. Предъ тысящею же вiно, и пiя Валтасаръ рече при вкушенiи
вiна, еже принести сосуды златы и сребряны, яже изнесе Навуходоносоръ отецъ его
изъ храма Господа Бога, иже въ Iерусалимѣ, и да пiютъ въ нихъ цари и
вельможи его, и наложницы его и возлежащыя окрестъ его …»
Ѳома Ѳомичъ поднялъ голову отъ
книги и сказалъ;
— Въ тѣ дни и раньше производилось по
приказанiю еще Ленина изъятiе церковныхъ сосудовъ изъ церквей и ободранiе иконъ.
Я и сказалъ помпрокурору: — «а знаете вы, гражданинъ, что ожидаетъ за сiе
самого товарища Сталина?..». Онъ мнѣ говоритъ, «что имѣете сказать
— говорите». Я и прочелъ имъ: — «Въ той часъ изыдоша персты руки человѣчи
и писаху противу лампады на повапленiи стѣны дому царева, и царь видяще
персты руки пишущiя. Тогда царю зракъ измѣнися, и размышленiя его смущаху
его, и соузы чреслъ его разслабляхуся, и колѣна его сражастася … … Тутъ,
значитъ, они меня перебили и говорятъ: — «переходите, товарищъ ближе къ
дѣлу. Бросьте вашу книгу, говорите, что знаете». Я имъ докладываю; — «это
не я знаю, это сказалъ пророкъ Даиiилъ и сказалъ про нынѣшнiя времена».
Тутъ одинъ сталъ говорить: «гоните его въ шею», a помпрокурора сказалъ: — нѣтъ,
пусть сдѣлаетъ заявку до конца». И я сталъ читать. «Царю! Богъ вышнiй царство
и величество, и честь, и славу даде Навуходоносору, отцу твоему, и отъ
величества еже ему даде, вси людiе, племена, языци бяху трепещуще и боящеся отъ
лица его: и ихъ же хотяше убиваше, и ихъ же хотяше бiяше, и ихъ же хотяше
возвышаше, ихъ же хотяше той смиряше. И егда вознесеся сердце его и утвердися
духъ его еже прозорствовати, сведеся отъ престола царства, и слава и честь
отъяся отъ него. И отъ человѣкъ отгнася, и сердце его со звѣрьми
отдася, и житiе его со дивiими ослы, и травою аки вола питаху его, и отъ росы
небесныя оросися тѣло его, дондеже уразумѣ, яко владѣетъ Богъ
Вышнiй царствомъ человѣческимъ, и ему же хощетъ дастъ е» … И говорю я
имъ: — все сiе написано про Владимiра Ильича Ленина, ибо власть его была подобна
власти Навуходоносора царя. И кого хотѣлъ разстрѣливалъ и кого
хотѣлъ возвышалъ, въ послѣднiе же дни жизни своей совсѣмъ
оскотинѣлъ и, извините за подробность, — калъ изъ подъ себя бралъ и
ѣлъ … Они на меня закричали и стали угрожать мнѣ. Но меня не
испугали, ибо Духъ Господень былъ на мнѣ. Я выждалъ, когда утихъ
гнѣвъ ихъ и дочиталъ имъ: «Сего ради отъ лица Его послани быша персты
ручнiи и писанiе сiе вчиниша. Се же есть писанiе вчиненое: мани, ѳекел, фарес. Се сказанiе глагола: мани, измѣри Богъ царство твое и скончае. Ѳекелъ, поставися въ
мѣрилѣхъ и обрѣтеся лишаемо. Фapeс, раздѣлися царство твое и дадеся Мидомъ и Персомъ».
Вотъ, говорю я имъ, — печальная участь самого Сталина. Раздѣлится царство
Россiйское и отдано будетъ японцамъ и полякамъ. A самъ Сталинъ смертiю умретъ.
Меня, знаете, хотѣли тутъ же и заточить, но помпрокурора сказалъ: — «оставьте
гражданина, потому что онъ есть сумасшедшiй и дуракъ». Придя домой, впалъ я, однако,
въ большое сокрушенiе. Ибо зналъ я, что за слова мои непремѣнная и
неизбѣжная меня ожидаетъ кара. Смерти я не такъ боялся, зналъ, что
счастiе принять смерть за исповѣданiе вѣры, но боялся я заточенiя,
ибо тогда мнѣ придется лишиться главнаго утѣшенiя и услады жизни
моей — библiи. Книга эта есть святая книга, но какъ, знаете, въ союзѣ
совѣтскихъ республикъ все святое упразднено, оставлено одно поганое и,
простите за слово — одна похабщина, то и имѣлъ я страхъ, что, какъ
упразднили они «ѳиту», какъ упразднили мою лавку, какъ упразднили
мѣшечниковъ, частниковъ, такъ могутъ они упразднить и мою библiю.
Ѳома Ѳомичъ помолчалъ немного,
точно ожидая какихъ то возраженiй, но какъ никто ему не возражалъ, онъ перевелъ
дыханiе и продолжалъ торжественнымъ «библейскимъ» стилемъ: —
— Былъ у меня помощникъ Исай Лукичъ, — съ позволенiя
сказать-съ — жидъ-съ. Однако, человѣкъ это былъ золотой и вѣрности
необычайной. Я и сказалъ ему: — «Исай Лукичъ, эта книга есть библiя, книга и
вамъ и мнѣ священная, но по нашимъ совѣтскимъ закокамъ это есть
книга запрещенная. Чувствую я, что меня, если не выведутъ въ расходъ, то
загонятъ, куда Макаръ телятъ не гонялъ. У меня есть просьба до васъ, если что
со мною такое произойдетъ, сохраните мнѣ эту книгу, не дайте ее на
поруганiе. Золотое сердце было у Исая Лукича. Онъ принялъ библiю и говоритъ: —
«не извольте безпокоиться, Ѳома Ѳомичъ, если васъ куда пошлютъ, я
запеку эту книгу въ хлѣбецъ и дамъ вамъ, какъ передачу, никто и не
узнаетъ ничего. А вамъ бы надо беречь себя и гдѣ ни на есть укрыться.
Гдѣ же скрываться? Развѣ отъ Божьей воли куда уйдетъ человѣкъ?
Я ждалъ своей участи съ молитвой и упованiемъ на Божiе милосердiе. Лѣтомъ
меня, значитъ, и взяли. Допытывались моей вины. Но какъ никакой вины я за собою
не зналъ, то и молчалъ. Тогда меня пытали. Зажимали пальцы между дверьми и
дробили суставы.
Ѳрма Ѳомичъ показалъ свои руки съ
исковерканными пальцами.
— При пыткахъ я молчалъ, а когда становилось
не въ моготу, славилъ Господа, что посылаетъ мнѣ мученiя. Послѣ
многихъ мукъ, посадили меня въ вагонъ. Вы знаете, что на каждомъ вагонѣ
царскаго правительства осталась надпись: «сорокъ человѣкъ, восемь
лошадей». Такъ въ тотъ вагонъ насъ набили поболѣе ста человѣкъ! Ни
тебѣ сѣсть, ни тебѣ лечь. Дыбомъ стояли всю дорогу, въ
тѣснотѣ и, извините-съ, въ нестерпимой вони. Утромъ сунули намъ
ведро воды. Произошла большая давка и не только что лицо ополоснуть, но и
напиться нико-му не удалось — расплескали всю воду. Ѣды же намъ совсѣмъ
ничего не давали. Я свой хлѣбецъ берегъ до чернаго дня, ибо зналъ, какая
радость запечена мнѣ въ томъ хлѣбцѣ — радость вѣчная.
На третiй день такого нашего путешествiя остановился нашъ поѣздъ, открыли
двери и кричатъ намъ чекисты: — «выкидайся» … Ну, кто живъ былъ — тотъ самъ
выкинулся, а кто умеръ въ такой дорогѣ, его уже выкинули другiе и какъ
падаль закопали возлѣ полотна. Вотъ такъ то я и попалъ сюда.
Тутъ взрѣзалъ я хлѣбецъ и
обрѣлъ вѣчное счастiе и радость въ утѣшительномъ словѣ
святой книги.
Ѳома Ѳомичъ благоговѣйно
закрылъ книгу и поцѣловалъ ея покрышку. Онъ погасилъ огарокъ. Сѣрый
свѣтъ стоялъ за окнами. Арестанты начинали подниматься. Каторжный рабочiй
день наступалъ.
V.
Днемъ припархивалъ мелкiй снѣжокъ. Онъ
ложился на мохъ красивыми звѣздочками и не таялъ. Мохъ былъ холодный и
ломкiй, и въ глуби его арестанты находили на длинныхъ и крѣпкихъ
нитяхъ-стебляхъ алую, крупную клюкву. Небо было синее и было непонятно, откуда
падалъ алмазный сверкающiй снѣгъ. И потому ли, что погода была очень ужъ
хорошая, тихая, ясная и въ лѣсу пахло смолою, хвоею и можжевельникомъ,
потому ли, что осень несла сокращенiе работъ — какъ то тихо было на душѣ
у арестантовъ. Ругань и крики не были такъ злобны, какъ всегда. До радости было
далеко. Радоваться въ Россiи перестали съ того дня, какъ арестовали Царя, и на
улицу вышла шумная гульливая толпа. Но солнце, голубизна высокаго неба, порхающiя
въ воздухѣ, алмазами вспыхивающiя снѣжинки наполняли сердца
арестантовъ какою-то вдругъ народившейся надеждою, что должна же случиться въ
ихъ судьбѣ перемѣна.
Въ этотъ день Ѳома Ѳомичъ особенно
сiялъ. Точно онъ зналъ новость радостную для всѣхъ, точно прослышалъ про
что то и хочетъ сказать, на весь каторжный мiръ крикнуть. Но … кругомъ, какъ и
всегда, была охрана, чекисты прислушивались къ каждому слову, сказанному
арестантомъ, свои сплетники и наушники готовы были за корку черстваго
хлѣба предать. На душѣ постепенно послѣ утра, давшаго какiя
то невозможныя, несбыточныя надежды, становилось тоскливо и жутко. Несвита
утромъ арестовали. Въ одномъ изъ древесныхъ стволовъ былъ найденъ загнанный
туда стальной клинъ. И хотя стволъ этотъ былъ далеко отъ того мѣста,
гдѣ работалъ Несвитъ, при обыскѣ обнаружили у него, на веревочномъ
крученомъ гайтанчикѣ небольшой желѣзный восьмиконечный крестъ и на
немъ надпись: — «Господи, спаси Россiю». Вотъ за этотъ то крестъ, за эту
надписъ и озвѣрѣли на него чекисты.
— Ишь ты, какой гадъ … Россiю надумалъ … Ты бы
еще, буржуй, про царя помянулъ … Настоящiй буржуй … Истребляешь ихъ,
истребляешь, а они все одно, какъ вошь какая, такъ отовсюду и лѣзутъ …
Несвитъ на допросѣ твердо и смѣло
заявилъ, что это не онъ загонялъ клинъ въ дерево, но что, если бы у него такой
клинъ былъ, онъ непремѣнно его загналъ бы … «Такъ вамъ, кровопiйцамъ, и
надо», сказалъ онъ.
Всѣ понимали, чѣмъ это должно было
кончкться: — на разсвѣтѣ должны были Несвита разстрѣлять. И
потому въ компанiи, окружавшей Ѳому Ѳомича было особенное,
разслабленное настроенiе, какое бываетъ всегда, когда есть въ домѣ
умирающій, тяжко больной человѣкъ и еще того болѣе, когда въ
домѣ ожидаютъ смертной казни близкаго человѣка.
Только самого Ѳому Ѳомича это
настроеніе точно не коснулось. Онъ, какъ зарядился съ утра своею веселою
жизнерадостностью, такъ съ нею и остался до ночи. Когда угомонился
баракъ-землянка и темная душная ночь стала кругомъ сторожить тревожный, тяжкiй
сонъ каторжанъ, Ѳома Ѳомичъ поднялся со своего мѣста и
засвѣтилъ огарокъ. Онъ не сталъ читать самъ, но дождавшись, пока
всѣ обычные его слушатели приблизились къ нему, передалъ книгу старому
Востротину и сказалъ мягко и умиленно: —
— Попрошу васъ, Селифонтъ Богдановичъ, читать намъ
о видѣнiи Iезекiилевомъ, а я вамъ доложу, какое и мнѣ сегодня
видѣнiе привидѣлось.
Востротинъ благоговѣйно принялъ книгу
отъ Ѳомы Ѳомича, поцѣловалъ ее, открылъ на томъ
мѣстѣ, гдѣ было заложено Ѳоминымъ и мягкимъ
«церковнымъ» притушеннымъ баскомъ началъ читать: —
— «И бысть въ тридесятое лѣто, въ
четвертый мѣсяцъ, въ пятый день мѣсяца, и азъ быхъ посредѣ
плѣненiя при рѣцѣ Ховаръ: и отверзошася небеса, и
видѣхъ видѣнiя Божiя».
Въ землянкѣ было темно и смрадно. Густой
храпъ, всхлипыванiя, икота, присвистъ тысячи людей, задыхающихся въ душномъ
воздухѣ, въ тяжеломъ снѣ, сливались въ страшную музыку и
сопровождали медлительное, торжественное чтенiе Востротина.
— «И видѣхъ, и се, духъ воздвизаяйся
грядяще отъ сѣвера …»
— Да, такъ оно и было, — прошепталъ Ѳома
Ѳомичъ, — отъ сѣвера …
— И облакъ великiй на немъ, и свѣтъ
окрестъ его, и огнь блистаяйся. И посредѣ его, яко видѣнiе илектра
посредѣ огня, и свѣтъ въ немъ: и посредѣ яко подобiе четырехъ
животныхъ. И сiе видѣнiе ихъ, яко подобiе человѣка въ нихъ …».
— Яко подобiе человѣка въ нихъ, —
повторилъ Ѳома Ѳомичъ.
Востротинъ читалъ, и по мѣрѣ того,
какъ онъ прочитывалъ видѣнiе пророка Iезекiиля, торжественнѣе и
умиленнѣе становилось лицо Ѳомина. Онъ кивалъ головою въ ритмъ
чтенiя, смахивалъ слезу и шопотомъ повторялъ прочитанное.
— «И внегда шествовати животнымъ, шествоваху и
колеса держащеся ихъ: и внегда воздвизатися животнымъ отъ земли, воздвизахуся и
колеса» …
— Такъ оно и было: внегда воздвизатися животнымъ
отъ земли воздвизахуся и колеса. Такъ точно и я видѣлъ.
И опять шло мѣрное торжественное чтенiе
стараго казака, стихъ за стихомъ описывалось необыкновенное явленiе,
видѣнное пророкомъ и имъ описанное.
— «И надъ твердiю, яже надъ главою ихъ, яко видѣнiе
камени сапфiра, подобiе престола на немъ, и на подобiи престола подобiе якоже
видъ человѣчь сверху».
— To былъ — аэропланъ, — сказалъ съ
рѣшительной увѣренностью Ѳома Ѳомичъ.
— Позвольте, — сказалъ Бруншъ. — Какой,
гдѣ аэропланъ?.. Когда жилъ пророкъ Iезекiиль и какой могъ онъ и
гдѣ видѣть аэропланъ?
— Господу доступно показать своему пророку
все, что было и все, что будетъ, — сказалъ Ѳома Ѳомичъ.
— А дѣйствительно странно, — сказалъ
Селиверстовъ,— пророкъ Iезекiиль словами своего времени и тѣми понятiями,
какiя были тогда, совершенно точно описалъ аэропланъ. Колеса, поднимающiяся
вмѣстѣ съ крыльями, сводъ, шумъ пропеллера — и слышахъ гласъ крилъ
ихъ, внегда паряху, яко гласъ водъ многихъ, яко гласъ Бога Саддаi: внегда
ходити имъ, гласъ слова, яко гласъ полка: и внегда стояти имъ почиваху крила
ихъ». — He работалъ пропеллеръ и не было слышно шума. Просто поразительно.
Точно и правда пророкъ Iезекiиль видѣлъ когда то аэропланъ …
— Да точно и видѣлъ, — убѣжденно
сказалъ Ѳоминъ.
— Подлинно священная книга, — прошепталъ съ
глубокимъ волненiемъ Каравай.
— Такъ вотъ я вамъ и скажу, что и мнѣ
«посредѣ плѣненiя при рѣцѣ нашей», тоже было
видѣнiе аэроплана … Я работалъ сегодня далеко отсюда, знаете, гдѣ
лѣсъ становится рѣже, гдѣ падинка образуетъ маленькую балочку
и тамъ лысое, голое мѣсто. И работалъ я одинъ, отъ сучьевъ стволы освобождалъ.
Работа легкая, снѣжокъ припархиваетъ, Несвита арестовали, повели его
смерть принимать за вѣру Божескую, арестуютъ и меня, и мнѣ Господь
пошлетъ смерть однажды и отъ всего этого стало мнѣ на душѣ легко и
ясно. Чекисты далеко. Вблизи и арестантовъ никого нѣтъ, тихо въ
лѣсу, никакая птица не поетъ, и я словами Давида ко Господу воззвалъ: —
«услыша отъ храма святого своего гласъ мой и вопль мой предъ Нимъ внидетъ во
уши Его … И подвижеся и трепетна бысть земля и основанiя горъ смятошася и
подвигошеся яко прогнѣвася на ны Богъ. Взыде дымъ гнѣвомъ Его и
огнь отъ лица Его воспламенится: углiе возгорѣся отъ Него. Избавитъ мя
отъ враговъ моихъ сильныхъ и отъ ненавидящихъ мя: яко утвердишася паче мене».
Избавитъ мя, избавитъ мя отъ враговъ моихъ сильныхъ!.. такъ повторялъ я въ моленiи
моемъ и «се духъ воздвизаяйся грядяще отъ сѣвера и облакъ великiй въ
немъ». Вотъ такъ, значитъ, я стою на молитвѣ въ пади, снѣжинки
алмазиками порхаютъ, свѣтъ тихiй съ неба льется и вижу ростетъ и ростетъ
на моихъ глазахъ снѣжинка, становится громадною будто птицею и тихо
безшумно падаетъ шагахъ въ ста отъ меня. И вижу — аэропланъ садится на землю.
— Аэропланъ?.. Безшумно?.. — сказалъ Селиверстовъ.
— Если человѣку привидѣлось, все
можетъ быть, — сказалъ Пельзандъ.
— Нѣтъ, граждане, въ томъ то и
дѣло, что это не привидѣлось, а и точно съ неба тихо и плавно
опустился аэропланъ. Видалъ я самолеты не разъ. И на корпусномъ аэродромѣ
у Вологодско-Ямской слободы и на комендантскомъ полѣ у Коломягъ не разъ я
видывалъ, какъ приземливаются наши летчики. Такъ это, граждане, было
совсѣмъ по иному и аэропланъ на наши никакъ не походилъ. Свѣтлый,
серебряный, не видимый и неслышный.
— Могли и такой изобрѣсти, — сказалъ
Бруншъ. — Нѣмцы у насъ хорошо работаютъ. Удивительнаго ничего
нѣтъ.Странно, что никто ничего такъ и не видѣлъ и не слышалъ.
— Можетъ быть и еще кто видѣлъ, да не
говоритъ, боится, — сказалъ Селиверстовъ.
— Такъ вотъ, граждане, стою я, притаившись, и
смотрю, и вижу выскакиваютъ напередъ четыре человѣка и разбѣжались
по угламъ пади и стали какъ бы на сторожѣ, а за ними еще двое.
Одѣты въ кожаныхъ курткахъ, видно, — на мѣху и сапоги кожаные
добротные, не иначе, какъ въ Москвѣ или Ленинградѣ въ Торгсинѣ
получили.
— Чекисты, — съ глубокимъ разочарованiемъ проговорилъ
Бруншъ. — А вы то насъ готовили къ чему то чудесному. Вѣрно, опять новая
регистрацiя, а за нею допросы, пытки и казни …
— He думаю, чтобы чекисты … Уже очень я
крѣпко и съ большою вѣрою молился. Огонь поядающiй сошелъ съ неба.
Вотъ какъ я думаю.
— Да почему? — спросилъ Востротинъ. Онъ внимательнѣе
и все съ большею и большею вѣрою слушалъ то, что говорилъ Ѳома
Ѳомичъ.
— Прежде всего — съ лица очень чистые. Чекисты
такiе не бываютъ. Одинъ, что впереди пошелъ, высокiй, осанка такая гордая,
прямой и сѣдой, а лицо моложавое. Другой лицомъ темный, загорѣлый и
идетъ за пер-вымъ, какъ добрая собака идетъ за охотникомъ, глазъ съ него нг
спускаетъ … Сразу, граждане, видно, что это настоящiе, царскiе офицеры.
— Ну мало ли царскихъ офицеровъ у нихъ въ чекистахъ
то служитъ, — сказалъ Пельзандъ.
— Служатъ, служатъ, это точно, Гуго Фердинандовичъ,
а только у тѣхъ, кто у нихъ служитъ, всегда есть что то въ лицѣ
подловатое и идетъ такой, такъ всегда словно ожимается. Точно вѣчно надъ
нимъ совѣсть.
— Ну! у такихъ!.. Искать совѣсть!.. —
сказалъ Селиверстовъ.
— И съ лица оба красивые. Между прочимъ, — изъ
коммунистовъ кто же красивый?.. Взять Ленина, Калинина, Троцкаго, рожи такiя,
что, простите за грубое слово, въ три дня не … … ….А эти …
— Но, позвольте, — сказалъ Бруншъ, — есть и
между коммунистами красивые. Блюхеръ, да тотъ же Луначарскiй или Дзержинскiй …
— Оставьте, пожалуйста, — сказалъ Коровай, —
Дзержинскiй, — я близко его видѣлъ … Точно — херувимъ вербный, а вглядитесь
въ его газельи глаза. Дiа волъ, сатана, чортъ … Нѣтъ, только уже не
Дзержинскiй.
— Такъ что же вы, Ѳома Ѳомичъ,
думаете? — спросилъ Селиверстовъ.
— Я думаю, что такая молитва, какъ была моя,
не можетъ быть не услышанной Господомъ. Я думаю: — огнь поядающiй … Вы слышите,
какъ тихо, а между прочимъ свѣтаетъсъ.
— Ну, такъ что же, что свѣтаетъ, —
сказалъ
Бруншъ.
— А какъ что же?.. He слышно, чтобы Несвита
разстрѣляли … He приходили опять же людей брать, могилу копать.
— Положатъ у женскаго отхожаго мѣста … Что
имъ …
Однако, всѣ призадумались. И точно,
наступалъ часъ подъема. Ѳома Ѳомичъ задулъ огарокъ, припряталъ библiю
и продолжалъ сидѣть въ полумракѣ на нарахъ.
Въ землянкѣ предъутреннимъ
особымъ крѣпкимъ сномъ гудѣли, храпѣли и сопѣли люди.
Смрадъ становился нестерпимымъ. За окнами въ сѣрыхъ неясныхъ туманахъ
нарождался день … Кругомъ въ лѣсу стыла утренняя тишина.
— Можетъ быть еще Сергѣя Степановича
пытать повели, — со вздохомъ сказалъ Востротинъ, — потому и не слышно
выстрѣловъ.
Всѣ сидѣли молча и неподвижно.
Сырая землянка казалась настоящимъ адомъ.
VI
Пришло время открывать казармы, выгонять людей
на работы, выдавать кипятокъ и хлѣбъ, но никто не являлся въ землянку.
Проснувшiеся отъ духоты арестанты
шумѣли.
— Покель гноить то насъ будете, — раздавались голоса
болѣе смѣлыхъ. Покель не подохнемъ всѣ. И васъ за то не
похвалятъ и намъ не въ моготу дольше.
— Заснули что ли, архангелы!
— Просыпайтесь, товарищи, выгоняйте насъ что
ли, а то и точно подохнемъ.
— Имъ что. Имъ, можетъ, такой приказъ отъ
начальства вышелъ, подушить насъ всѣхъ.
Никто не отзывался. Блѣдное утро
загоралось огнями солнечнаго восхода и съѣдало туманъ. Маленькiя окна
землянки были, какъ въ золотѣ. Казарма кишѣла поднявшимися людьми. Одни
мѣшали другимъ, одни наступали на другихъ. Шумъ и говоръ наростали.
— Полегче, гражданинъ, вы мнѣ на голову
едва не наступили.
— А вы чего разлеглись на дорогѣ …
— А гдѣ мнѣ лечь прикажете, когда
мѣста нигдѣ нѣтъ.
Внезапно, точно по командѣ, голоса и
крики стихли. Въ казармѣ стали прислушиваться къ тому, что происходитъ въ
лѣсу.
— Постойте, товарищи, не шумите такъ.
— Что тамъ такое?.. Какой сонъ ихъ
одолѣлъ.
— Перепились, что ли, какъ тотъ разъ.
Въ лѣсу стояла полная торжественная
тишина. Ясный, солнечный и, должно быть, теплый день, одинъ изъ
послѣднихъ прекраснаго бабьяго лѣта наступалъ и несъ съ собою
нѣчто необычайное, странное, и, конечно, гадкое и жуткое, отвратительное,
какую то новую придумку палачей чекистовъ.
— Не подыхать намъ всѣмъ изъ за васъ, —
раздался чей то отчаянный голосъ. Человѣкъ и крикнулъ это и боялся, что
сосѣдъ увидитъ и скажетъ на него потомъ. Но уже волна отчаянiя захватила
толпу. Съ трескомъ и звономъ разсыпалось отъ сильнаго удара узкое оконце и
нѣсколько головъ приникло къ отверстiю, жадно ловя чистый воздухъ.
— Братцы!.. Чудеса!.. Никого и стражи
нѣтъ. Тогда, точно какое то опьяненiе нашло на людей.
Страхи были забыты. Дружно навалились на двери
и стали выламывать. Доски гнулись, подлѣ дверей сопѣли, напрягаясь,
люди.
— Полегче, граждане, дышать совсѣмъ
нечѣмъ.
— Ты, Артемовъ, плечомъ навались.
— Граждане, пустите, Ерохина. Ерохинъ, тотъ
сдвинетъ.
Наконецъ, дверь вылетѣла изъ рамы. Люди
стали выбѣгать наружу.
Тамъ, гдѣ обыкновенно была стража, не
было никого. Было видно, какъ изъ сосѣднихъ землянокъ тоже выбѣгали
люди и, точно почуявъ вольную волю, останавливались въ недоумѣнiи и
страхѣ. Нѣсколько человѣкъ, старшины казармы, въ ихъ
числѣ Селиверстовъ и Коровай, пошли къ особому городку, гдѣ въ
теплыхъ, отапливаемыхъ баракахъ, по барски, жили чекисты и администрація каторги.
Тамъ былъ красный клубъ чекистовъ. Этотъ городокъ былъ окруженъ высокимъ заборомъ
изъ заостренныхъ наверху бревенъ, «палями». Впереди палей была еще устроена
проволочная загородка. Ворота въ ней были открыты, и самыя главныя ворота въ
паляхъ были распахнуты настежъ. Часовыхъ не было.
Изъ за палей былъ слышенъ чей то сильный, начальническiй
голосъ. На него дружно отвѣчали, должно быть построенные во фронтъ
чекисты.
— Понимаемъ … Понимаемъ … Слушаемъ … — неслось
изъ за палей.
Арестанты остановились. Чекисты были живы. Ихъ
преступленiе — сломанныя въ землянкѣ двери и выбитыя окна, сейчасъ будутъ
обнаружены и жесточайшiя кары послѣдуютъ за самовольный уходъ изъ
казармы. Шедшiе къ палямъ стали пятится назадъ.
— Подыхать надо было намъ, а не
своевольничать, — съ тяжелымъ вздохомъ прошепталъ Коровай.
— Все одно, тамъ ли, тутъ ли, подохнуть,
всегда успѣемъ.
Селиверстовъ и съ нимъ два человѣка изъ
другой землянки, кто былъ посмѣлѣе, вошли за проволоку и, крадучись
по надъ заборомъ, направились къ главнымъ воротамъ. Они заглянули въ нихъ.
Кажется, и правда — ничего особеннаго не произошло.
Внѣшняя охрана, около сотни дюжихъ
парней, набранныхъ изъ проштрафившихся чекистовъ, все больше уголовники, убійцы,
воры, грабители, насильники, присланные сюда, чтобы издѣвательствомъ надъ
совѣтскими каторжанами смыть свои преступленiя и доказать вѣрность
совѣтской власти, народъ до нельзя грубый и развращенныи властью надъ
жизнью и смертью тысячъ подчиненныхъ имъ каторжанъ, люди крѣпкiе и здоровые,
стояли въ двѣ шеренги на вытяжку. Противъ ихъ фронта, похаживалъ высокiй,
статный человѣкъ съ сѣдыми волосами, въ кожаной курткѣ,
хорошо, ладно одѣтый, вѣроятно, тотъ старшiй чекистъ или самъ комиссаръ,
кого видѣлъ Ѳома Ѳомичъ прилетѣвшимъ на аэропланѣ.
Сзади него, какъ помощникъ или секретарь, былъ, такой же высокiй стройный
человѣкъ съ сильно загорѣлымъ лицомъ. На немъ была написана четкая
офицерская исполнительность. Селиверстовъ опытнымъ, наметаннымъ глазомъ.
сейчасъ же опредѣлилъ: — изъ старыхъ кадровыхъ офицеровъ. «Эти», —
подумалъ онъ, — «хуже всего. Исполнительны, вѣрны и безстрастны».
Но дѣло было сдѣлано. Семь
бѣдъ — одинъ отвѣтъ. Любопытство было сильнѣе страха, и
Селиверстовъ сталъ прислушиваться къ тому, что говорилъ прилетѣвшiй
вчера. Это было нетрудно. Высокiй сѣдой человѣкъ говорилъ, какъ
власть имущiй, громко и рѣзко, отчетливо выговаривая слова, какъ, бывало,
въ Императорской армiи отдавали приказанiя полку хорошiе полковые командиры. Да
и самъ онъ умѣло держался передъ фронтомъ. Пройдетъ тихо вдоль него,
остановится, оглянетъ людей и продолжаетъ говорить. И это не рѣчь,
нѣтъ, отнюдь не рѣчь съ ея неизмѣннымъ и часто дешевымъ
краснорѣчiемъ, но это приказанiя и угрозы.
— Вы видѣли, что было въ комиссарской
казармѣ, — говорилъ сѣдой человѣкъ. — Еще худшее будетъ съ
вами при малѣйшей вашей попыткѣ сопротивляться или при неисполненiи
моихъ приказанiй. Я васъ такой смертiю казню, какая даже и вамъ не снилась …
— Понимаемъ, — глухо прокатилось по шеренгамъ.
— Потрудитесь снять ваши револьверы и патронташи
и сложить ваши винтовки и все оружiе вотъ на этомъ мѣстѣ подъ
охрану … Подъ охрану …
Сѣдой человѣкъ смѣло
подошелъ къ фронту и, взявъ одного изъ чекистовъ за воротникъ, спросилъ: —
— Ты гдѣ служилъ при Государѣ
Императорѣ?
— Въ Морочненскомъ полку … Призыва 1916 года.
— Какъ твоя фамилiя?
— Кабашниковъ, ваше скородiе.
— Вотъ ты и станешь часовымъ … Ты мнѣ
отвѣтишь за все … Самъ понимаешь, какъ …
— Понимаю, вашескородiе.
— Дальше … Въ казармѣ комиссаровъ,
издали, камнями выбить окна и близко къ тому дому не подходить и никого не
подпускать, пока всѣ газы не выйдутъ, a то и сами подохнете, какъ они.
Когда я прикажу, тогда и приберете тамошнюю падаль.
— Понимаемъ, — раздался мрачный и глухой отвѣтъ.
— Сдавайте оружiе и идите строить и разбирать
ссыльныхъ, какъ я вамъ это указалъ.
Чекисты, вытянувшись длинною очередью, сдавали
ружья и, снявъ револьверы, складывали ихъ въ кучу.
Около кучи, заправскимъ часовымъ, сталъ
Кабашниковъ.
Несомнѣнно, что то произошло и произошло
нѣчто необычайное, никогда здѣсь небывалое, точно и не совѣтское.
«Государѣ Императорѣ», «ваше скородiе», все
это очень запомнилось
тѣмъ, кто подслушивалъ у воротъ.
Селиверстовъ побѣжалъ къ ожидавшимъ его
у землянки арестантамъ и издали уже кричалъ: —
— Строиться, строиться, граждане, новая власть
прiѣхала … Новая охрана идетъ совсѣмъ безоружная …
VII.
Охрана была старая. Но то, что она была безъ
винтовокъ и револьверовъ, сдѣлало ее иною. Чекисты несмѣло
подходили къ выстроившимся каторжанамъ. Они не окрикивали, какъ обычно,
безмолвныхъ шеренгъ, не издѣвались здорованьемъ съ оскорбительными кличками:
«здорово, баржуи», на что требовалось разомъ и точно вороньимъ карканiемъ
отвѣтить: — «здр-р-ра».
Они шли робко и, подойдя, говорили ласково заискивающе,
называя то: «граждане», то «господа». Чувствовалось, что ихъ праздникъ
кончился, и пришла какая-то новая власть, совсѣмъ не похожая на прежнюю
совѣтскую.
— Господа, прошу выслушать приказъ. «Господа»,
трясущiеся на осеннемъ вѣтру, въ завшивѣвшемъ бѣльѣ, въ
рваной одеждѣ, босые, оборванные, отрепанные, кто въ подобiи шапокъ, кто
съ обмотанной платкомъ головою, кто и вовсе безъ ничего съ краснымъ лысымъ
черепомъ, съ больными исхудалыми, изможденными лицами, съ воспаленными,
распухшнми, красными глазами, заросшiе неопрятными косматыми волосами,
торчащими колтунами, тянули впередъ черныя жилистыя шеи и, казалось, не
понимали того, что имъ говорили.
Уже не новая-ли какая провокацiя, а за нею
пытки и смерть, не новыя ли издѣвательства, насмѣшки и оскорбленiя
ихъ ожидали? И только то, что имъ наскоро успѣлъ разсказать Селиверстовъ,
да сконфуженный видъ подходившихъ къ нимъ чекистовъ, похожихъ на ощипанныхъ
пѣтуховъ, не позволилъ имъ скрыть такъ до сихъ поръ тщательно даже другъ
передъ другомъ скрываемое прошлое.
— Кто служилъ въ офицерскихъ чинахъ, въ Императорской
армiи, — вызывалъ чекистскiй старшина, — выходи впередъ и становись противъ
праваго фланга. Кто состоитъ въ Братствѣ Русской Правды, которые есть
инженеры, архитекторы, кто хлѣбникъ, мясникъ, портной, сапожникъ,
становись по родамъ своихъ ремеслъ.
По новому верстали людей. Не вызывали, какъ
обычно, — партiйцевъ, комсомольцевъ, эсъ-дековъ, эсъ-эровъ, кадетовъ,
монархистовъ, кулаковъ, подкулачниковъ, вредителей, частниковъ, сопровождая
каждый вызовъ грязными насмѣшками и прибаутками чекистскаго тона. Звали
по трудовымъ признакамъ, звали по спецiальностямъ. Зачѣмъ въ
каторгѣ понадобились «спецы», въ каторгѣ всѣ равны?
Изъ отобранныхъ по всѣмъ казармамъ
группъ вызвали старшихъ годами, чинами, или положенiемъ, или знанiями и повели
къ комендатурѣ.
Этимъ старшимъ роздали оружiе и имъ подчинили
чекистовъ.
Потомъ ихъ построили и прилетѣвшiй вчера
на аэропланѣ неизвѣстный, одѣтый по комиссарски человѣкъ,
сказалъ:
— Прежде всего, господа, вы свободные люди.
Но, такъ какъ вамъ, да еще такою массою, нельзя покинуть этихъ мѣстъ,
пока вся Россiя не освободится отъ коммунистовъ …
— Развѣ освободилась отъ коммунистовъ
хотя часть Русской земли? — робко перебилъ Селиверстовъ.
— Вы стоите на свободной землѣ, —
спокойно, острымъ взглядомъ ясныхъ сѣрыхъ глазъ глядя въ глаза
Селиверстову, сказалъ человѣкъ и показалъ на флагштокъ комендатуры.
На высокомъ древкѣ вмѣсто
вылинявшаго бураго флага съ серпомъ и молотомъ тихо рѣялъ въ блѣдно-голубомъ
бездонномъ небѣ Русскiй бѣло-сине-красный большой новый флагъ.
Нѣсколько секундъ Селиверстовъ съ открытымъ ртомъ, не вѣря своимъ
глазамъ, смотрѣлъ на него.
— Та-акъ, — протянулъ онъ. На него точно
какой-то столбнякъ нашелъ. Теперь онъ ничего не понималъ. Да что же, наконецъ,
случилось?
— Такъ какъ вамъ, хотя и свободнымъ людямъ,
нельзя уѣхать отсюда, — продолжалъ прiѣзжiй, — вамъ надо устроить
вашу жизнь по-человѣчески. Господа инженеры и архитекторы, вамъ надлежитъ
выбрать мѣсто и немедленно приступить къ постройкѣ городка для проживанiя
… Портные и сапожники, вамъ надо открыть мастерскiя, чтобы по-человѣчески
всѣхъ одѣть. Промышленники, организуйте промысла, чтобы кормить людей,
какъ слѣдуетъ. Васъ надо вылѣчить, одѣть, накормить, дать
вамъ отдохнуть и поправиться, набраться силъ … Съ бывшими офицерами надо начать
формировать новыя воинскiя части. Генералъ Броневскiй, — обратился этотъ
человѣкъ къ стоявшему нѣсколько въ сторонѣ еще крѣпкому
старику, внѣшнимъ видомъ отнюдь не походившему на генерала, но
скорѣе на нищаго бродягу. — Вы чѣмъ командовали въ Великую войну?
— Старо-Муринскимъ пѣхотнымъ полкомъ, —
хриплымъ, основательно простуженнымъ голосомъ отвѣтилъ тотъ, кого назвали
генераломъ Броневскимъ.
— Вамъ поручается … На васъ возлагается обязанность
изъ всей массы ссыльныхъ отобрать все крѣпкое, могущее стать подъ
знамена, молодое и смѣлое и составить … роту ли … батальонъ … полкъ,
словомъ, что наберется. Назначите офицеровъ и унтеръ-офицеровъ …. Создадите
учебныя команды … Я вамъ доставлю уставы, наставленiя и учебники … Когда
наладится дѣло, пришлю и оружiе. Позаботьтесь о выдѣленiи
артиллеристовъ для формированiя батарей … Потомъ подумаемъ и о конницѣ …
Все постепенно …
— Слушаю … Позвольте, однако, спросить васъ,
съ кѣмъ я имѣю честь говорить?
Мягкая, милая и привѣтливая улыбка
освѣтила суровое лицо сѣдого человѣка.
— Я, ваше превосходительство, никто … Я только
передатчикъ воли будущаго Императора, что, соглашаюсь, звучитъ не совсѣмъ
убѣдительно.
— Мнѣ понятно, — пробурчалъ генералъ
Броневскiй.
— Передатчикъ воли … вѣрнѣе
подготовитель пути тому, кого изберетъ Русскiй народъ, чтобы царствовалъ на
Руси … Я же только … ротмистръ … Ротмистръ Ранцевъ …
— Слушаю, ротмистръ … Передайте кому надо, я
вашу мысль понимаю и усвоилъ. Для будущаго Императора все, что въ моихъ силахъ
и съ этимъ матерiаломъ, — генералъ сдѣлалъ жестъ въ сторону каторжныхъ землянокъ,
гдѣ становилось все шумнѣе и шумнѣе, — я сдѣлаю. Я
надѣюсь дня черезъ два доложить вамъ для доклада кому слѣдуетъ,
какую часть можетъ выставить наша Песковско-Ямская совѣтская каторга …
VШ.
Чрезъ три дня Ранцевъ проходилъ съ генераломъ
Броневскимъ по комиссарскому городку. Они выбирали мѣсто для штаба отряда
и для офицерскихъ классовъ. Въ это время особо назначенные люди подъ наблюденiемъ
старшихъ вмѣстѣ съ бывшими чекистами выносили трупы изъ комендантскаго
дома. По еще сохранившемуся совѣтскому обычаю трупы были раздѣты до
бѣлья. Ранцевъ, онъ шелъ съ Ферфаксовымъ, подумалъ, что онъ бросилъ въ ту
ночь газовую бомбу въ это зданiе, гдѣ помѣщалось управленiе
каторгой, не зная, кто тамъ и что тамъ за люди. Но на войнѣ, развѣ
знаешь, кого поражаютъ снаряды и бьютъ пули?
— Вы знали этихъ людей, ваше превосходительство?
— спросилъ Ранцевъ, направляясь къ выложеннымъ для отправки для погребенiя
мертвецамъ..
— А какъ же. Я вѣдь можно сказать
здѣшнiй старожилъ. Съ самаго основанiя этой каторги я на ней, какъ
злостный саботажникъ и вредитель. Вотъ это Борухъ Самулевичъ, комендантъ и
комиссаръ. Человѣкъ, знаете, ничего себѣ. Онъ попался въ какомъ-то
хищенiи и былъ присланъ править и владѣть нами. Съ нимъ бы можно было
поладить. Человѣкъ онъ мягкiй, типичный интеллигентъ, кажется, даже
хорошо ученый, универсантъ, но при немъ былъ вотъ этотъ …
Ранцеву не надо было называть, кто былъ «вотъ
этотъ». Его трупъ сказалъ ему свое имя. На землѣ, покрытой чахлой,
померзшей, примятой травою лежалъ на спинѣ, длинный, несуразый
человѣкъ съ худымъ, землистаго, бураго цвѣта лицомъ, изборожденнымъ
многими морщинами, поросшимъ клочьями рыже-сѣдой косматой бороды. Непомѣрно
длинныя руки касались колѣнъ. Голова склонилась на бокъ. Полуприкрытые
вѣками глаза тускло отсвѣчивали и, казалось, поглядывали сбоку.
Ротъ былъ полуоткрытъ, и желтые крѣпкiе зубы были видны изъ-подъ мертвой
синевы губъ. Что-то страшное было въ этомъ покойникѣ. Казалось, что онъ не
мертвъ, но только притворяется мертвымъ и вотъ вскочитъ и бросится на
тѣхъ, кто смотрѣлъ на него.
— Я ручаюсь, — тихо сказалъ Ранцеву, въ раздумьи
стоявшему надъ трупомъ Ферфаксовъ, — я ручаюсь, что именно этого человѣка
я видѣлъ на Шадринской заимкѣ, когда такъ неудачно попалъ на нее.
«Съ нимъ ушла тайна похищенiя Настеньки», — думалъ
Ранцевъ. — «Съ нимъ вмѣстѣ ушла и тайна убiйства Портоса, доставившая
мнѣ столько несчастiй и, можетъ быть, только онъ могъ бы мнѣ
сказать, что-нибудь про участь моей безконечно любимой Али. Слѣпой случай
далъ мнѣ его въ руки и тотъ же случай далъ его мертвымъ … Можетъ быть,
даже это и къ лучшему …»
Какъ сквозь дремоту, точно у него были
заложены уши, Ранцевъ слушалъ, что говорилъ ему генералъ Броневскiй.
— Это былъ настоящiй аспидъ. Не было пытки, какую
бы онъ ни придумалъ. А, говорятъ, изобрѣтатель … Химикъ … Звали его тоже
по странному … Ермократъ … Я даже усумнился есть ли такое имя … Не исковерканное
ли это слово «демократъ»? … Но мнѣ тутъ ссыльный одинъ, Ѳома
Ѳомичъ, богословски начитанный человѣкъ, разъяснилъ, что подлинно
такое имя есть, и празднуется тотъ святой iюля 26-го.
Былъ онъ въ совѣтскомъ судѣ и занималъ большое мѣсто,
говорятъ помощникомъ самого Крыленки состоялъ. Помните было дѣло о
Ѳедоровской сектѣ, такъ онъ тогда обвинителемъ былъ … Ну а потомъ
проштрафился … Большой ходокъ, несмотря на этакую рожу, оказался по женской
части и хотя на это у насъ какъ-то просто смотрятъ, онъ уже очень себя показалъ
и былъ сосланъ сюда … Ну онъ и тутъ не скучалъ. Женщинъ на каторгѣ не
мало … Онъ ихъ всѣхъ перепортилъ …
Ранцевъ старался не слушать того, что говорилъ
Броневскiй. Онъ медленно шелъ къ крыльцу большого дома, занятаго раньше
комендатурой каторги. Въ его памяти пронеслось то время, когда онъ, молодой, —
однако, какъ незамѣтно двадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, —
послѣ скачки на Императорскiй призъ, счастливый отъ одержанной
побѣды, наканунѣ отправленiя въ Поставы на парфорсныя охоты,
гдѣ столько ожидалъ онъ радостей, зашелъ къ капитану Долле на пороховые
заводы и тамъ въ первый разъ увидалъ этого человѣка. Въ тотъ вечеръ у
него были непрiятныя ощущенiя на пароходѣ, перевозившемъ его черезъ Неву,
когда какой-то матросъ умышленно не отдавалъ ему чести и рабочiе,
переѣзжавшiе на этомъ же пароходикѣ, смѣялись и радовались
униженiю офицера, тогда въ первый разъ въ жизни ощутилъ онъ липкое
прикосновенiе оскорбленiя не отомщеннаго и такого, какое не легко отомстить,
тогда первый разъ компромиссъ всталъ передъ нимъ и омрачилъ праздникъ, бывшiй у
него на душѣ. Точно одно мимолетное знакомство съ этимъ человѣкомъ
уже наложило какую-то жуткую печать. Потомъ Ранцевъ слышалъ, что этого
человѣка подозрѣвали въ убiйствѣ Портоса, его товарища и
бывшаго любовника его жены, еще тогда, когда она была въ первомъ бракѣ съ
профессоромъ Тропаревымъ. Тяжкiя были это воспоминанiя! Этотъ человѣкъ,
возможно, похитилъ его дочь Настеньку. Онъ являлся, и всякiй разъ случалось
что-нибудь жуткое и гадкое съ нимъ. Теперь онъ появился въ послѣднiй
разъ, уже мертвымъ … Что знаменовало его появленiе? …
Ранцевъ вспомнилъ, какъ въ ту ночь, онъ съ Ферфаксовымъ
подошелъ къ воротамъ и на окрикъ часового, начальническимъ тономъ спросилъ,
«гдѣ комендатура?» Онъ вспомнилъ, какъ на ихъ стукъ, несмѣло прiоткрылась
дверь, и они увидали при свѣтѣ керосиновыхъ лампъ два ломберныхъ
стола, бутылки и карты на нихъ, и людей въ кожаныхъ курткахъ кругомъ. Одни
встали, другiе остались сидѣть. Ранцевъ плохо тогда видѣлъ лица
этихъ людей … Если бы тогда узналъ Ермократа, взялъ бы его для допроса … Сталъ
бы его пытать? Придумалъ бы для него какую-нибудь особо мучительную смерть? …
Нѣтъ … He офицерское это дѣло … Ранцевъ былъ и остался офицеромъ …
можетъ быть, такъ и лучше было. Они бросили тогда свои бомбы и быстро
захлопнули двери. Стоя за дверьми, они прислушались. Они услышали, какъ
«пш-ш-ши» съ особымъ свистящимъ звукомъ лопнули бомбы и сейчасъ стали слышны
глухiе удары падающихъ тѣлъ и грохотъ стульевъ, ими поваленныхъ ….
— Всѣхъ вынесли? — спросилъ онъ у
чекиста, выходившаго изъ дверей.
— Однако, всѣхъ, — по сибирски
отвѣтилъ чекистъ. Въ комнатѣ еще оставался трупный запахъ. И безпорядокъ
поваленныхъ столовъ и стульевъ и разбросанныхъ картъ говорилъ о той страшной
ночи. Ранцевъ овладѣлъ собою и спокойнымъ голосомъ давалъ указанiя,
гдѣ и что должно быть устроено и помѣщено.
Когда они вышли изъ дома, день сiялъ солнечными
лучами. Морозъ сталъ меньше. Простившись съ Броневскимъ, Ранцевъ съ
Ферфаксовымъ, сопровождаемые почтительно слѣдовавшимъ за ними дежурнымъ,
направились вдоль рѣки. Ферфаксовъ осторожно и, даже какъ будто робко,
заглянулъ въ лицо Ранцева и, густо покраснѣвъ, сказалъ:
— Ты думаешь, Петръ Сергѣевичъ, о
Валентинѣ Петровнѣ, о командиршѣ?
— Я никогда не переставалъ и не перестану
думать о ней, — тихо отвѣтилъ Ранцевъ. Въ его голосѣ были мягкость
и задушевность, какихъ не ожидалъ Ферфаксовъ. — Но я думаю, что ея нѣтъ
больше на свѣтѣ.
— Почему ты такъ думаешь?
— Прошло тринадцать лѣтъ съ тѣхъ
поръ, какъ мы разстались. Неужели за эти тринадцать лѣтъ, если бы она
была жива, она не нашла бы способа написать мнѣ, или выбраться оттуда и
искать меня? Она же любила меня.
— А, если и она думала такъ же, какъ и ты, что
тебя нѣтъ въ живыхъ. У ней то было больше основанiй думать, что ты
погибъ.
— Можетъ быть … Не надо объ этомъ говорить … И
думать о ней … это большая роскошь, которую я не имѣю права позволять
себѣ … Смотри, что насъ ожидаетъ … Какая работа! Мнѣ вспоминается
жена одного японскаго офицера, самурая. Ея мужъ отправился на войну. Она пошла къ
домашнему алтарю и передъ богами открыла себѣ ножомъ животъ. При ней
нашли записку, что она поступаетъ такъ, чтобы не мѣшать мужу заботами о
ней исполнить свой долгъ передъ Родиной. Я мечтаю … Но я не позволяю себѣ
мечтать … Я молюсь … Но я не позволяю думамъ объ этомъ заслонять главное, то,
что нужно для Родины.
Они дошли до широкой просѣки, подъ
прямымъ угломъ отъ рѣки углублявшейся въ лѣсъ. Тысячи топоровъ
стучали, тысячи пилъ скрипѣли тамъ и гомонила многотысячная толпа
рабочихъ. Тамъ рушили лѣсъ и заготовляли бревна не для отправки
заграницу, но для постройки сносныхъ жилищъ для обитателей бывшей
Песковско-Ямской совѣтской каторги.
Ранцевъ показалъ на рядъ пестрыхъ реекъ,
провѣсившихъ линiю проспекта.
— Смотри … Намъ приходится повторять
дѣла Петра Великаго и въ невѣдомой странѣ ставить полковыя
свѣтлицы … Дѣла такъ много … Русскаго, живого дѣла, что
нельзя думать о своемъ, личномъ, какъ бы дорого и мило оно намъ ни было ….
IX
Этотъ край … что это за чудный, прекрасный,
здоровый былъ край! Съ какими крѣпкими душистыми, морозными въ
началѣ августа ночами и румяными, ясными, долгими зорями, когда точно не
торопится народиться солнце и съ какими жаркими подъ низко плывущимъ по небу
румянымъ солнцемъ днями.
Когда Ранцевъ подъ зноемъ экваторiальнаго солнца
на Россiйскомъ острову вглядывался въ громадныя пространства карты, покрытыя,
кое-гдѣ блѣдно-зеленой краской и видѣлъ тонкiй узоръ,
неувѣренно бѣгущихъ къ студеному морю рѣкъ —его воображенiю
рисовалась тундра, безконечныя равнины, покрытыя замерзшимъ болотомъ, съ
низкимъ и ломкимъ голубовато сѣрымъ мохомъ, съ кочками, поросшими жалкими
кустиками голубики, съ кое-гдѣ торчащими пахучими деревцами терпкаго въ
восковыхъ цвѣтахъ можжевельника, поросли тонкихъ низкихъ карявыхъ съ
розовыми стволами березокъ и жидкихъ полярныхъ сѣрыхъ сосенъ. Онъ ожидалъ
найти здѣсь рѣдкiя становища самоѣдскихъ чумовъ изъ оленьихъ
шкуръ, легкiя санки съ полозьями изъ мамонтовой кости, запряженныя сѣрыми
оленями съ раскидистыми рогами и полное отсутствiе Русскихъ.
Онъ думалъ тогда: какъ же работать? … Кого найдетъ
онъ тамъ для созданiя Русской армiи?
Онъ вышелъ изъ двухъярусной бревенчатой просторной
избы на воздухъ. Маленькiй палисадникъ съ деревяннымъ узорнымъ заборчикомъ, съ
березами въ золотѣ осенней опадающей листвы отдѣлялъ его отъ
пыльнаго немощенаго широкаго тракта. На сѣверъ и на югъ тянулись
сѣрые столбы съ двумя проволоками телеграфа. На сѣверъ до самаго
океана телеграфъ работалъ, на югъ сообщенiе было прервано. Телеграфъ, телефонъ,
радiо, всѣ средства связи съ Совѣтской республикой по распоряженiю
Ранцева были сняты. Громадный край, больше Европейскаго материка, былъ
отрѣзанъ отъ своего центра. Этотъ край висѣлъ какъ бы на
ниточкѣ.
Эта ниточка — широкая и веселая рѣка
неслась теперь передъ Ранцевымъ въ низкихъ берегахъ. Подувалъ ледяной
вѢтерокъ навстрѣчу теченiю и вздымалъ рѣзвыя волны, покрытыя
бѣлопѣнными гребешками. Въ этой пустынной рѣкѣ было
нѣчто обдрящее и въ то же время что-то точно неземное, потустороннее. Она
напоминала рѣки, описанныя Эдгаромъ Поэ, рѣки фантастическихъ
странъ, гдѣ по лугамъ растутъ асфодели и гдѣ время стоитъ неподвижно.
Рѣка была широка и глубока. Песчаный берегъ круто уходилъ въ ея
прозрачныя зеленыя волны. На немъ лежали камни, гранитные и гнейсовые валуны.
Въ ихъ розовыхъ и сѣрыхъ бокахъ, испещренныхъ бѣлыми и черными
крапинами кварцевъ, въ пупырышкахъ зеленаго мха, выпуклыми подушечками
покрывавшихъ ихъ, была какая-то особенная яркость … Противоположный берегъ
вздымался крутымъ обрывомъ. На немъ росъ темный безкрайнiй лѣсъ.
За трактовой дорогой, на берегу, сѣрымъ
кружевомъ висѣли повѣшенныя на кольяхъ рыболовныя сѣти … Село
рядомъ большихъ бревенчатыхъ, похожихъ одна на другую, избъ протянулось вдоль
берега. На окраинѣ его была высокая деревянная церковь и погостъ въ
пестромъ нарядѣ осеннихъ березъ, рябинъ и осинъ. И, когда смотрѣлъ
Ранцевъ вверхъ и внизъ по рѣкѣ, онъ видѣлъ, какъ къ небу
тянулись бѣлые дымы другихъ селъ и деревень. Вѣтеръ срывалъ эти
дымы, несъ ихъ къ блѣдному небу и съ гуломъ телеграфной проволоки
казалось доносился и шумъ бившей тамъ Русской, не совѣтской жизни.
Просторная лодка-баркасъ косила съ того
берега. На ней гребли бабы въ пестрыхъ и яркихъ платкахъ и кофтахъ и ихъ
веселый и громкiй говоръ отдавался на берегу.
Въ избѣ, откуда только что вышелъ
Ранцевъ, висѣли портреты «вождей» — идiотская харя Ленина, косматая
бородатая морда Карла Маркса, — очень она здѣсь кстати приходилась на
бревнахъ Русской избы — и портреты какихъ-то, должно быть, комиссаровъ … Ранцевъ
приказалъ ихъ снять, протереть стѣны святою водою и повѣсить
тѣ иконы, которыя раньше висѣли на этомъ мѣстѣ. Теперь
тамъ шумно возились и плескались бабы.
Тройка мелкихъ, но крѣпкихъ и ладныхъ
лошадей, звеня бубенцами, подкатила къ крыльцу простую нерессорную
телѣгу. Ранцевъ сѣлъ въ нее. Онъ ѣхалъ въ объѣздъ.
— Вы вотъ съ бубенцами, да съ колокольчикомъ,
— сказалъ, оборачиваясь къ Ранцеву, мужикъ ямщикъ, а тѣ боялись. Молчкомъ
ѣздили, да все съ охраной.
Жизнь кипѣла въ этомъ вдругъ
разбуженномъ краю. «Гекторъ», бывшая «Немезида», вмѣстѣ съ
совѣтскимъ ледоколомъ стоялъ въ устьѣ рѣки и спѣшно разгружался.
Капитанъ Ольсоне надѣялся еще успѣть сдѣлать до ледостава два
реиса и привезти все заказанное Ранцевымъ Дрiянскому.
Ранцевъ зналъ, что эта Русская жизнь была
только вдоль рѣки. Какъ ягоды смородины висятъ на тонкомъ и нѣжномъ
зеленомъ стеблѣ, такъ и села и деревни висѣли только вдоль стержня
рѣки … Отъ рѣки на тысячу двѣсти верстъ до другой такой же
рѣки не было ничего … Или такъ казалось, что тамъ ничего не было? Туда не
было ни трактовыхъ, ни проселочныхъ дорогъ. Кое-гдѣ попадались тамъ
самоѣдскiе чумы, небольшiя заимки, потомъ все это замыкалось лѣсною
и тундровою пустыней, никому неизвѣстной и никѣмъ необслѣдованной.
Ранцевъ леталъ въ этотъ край на
аэропланѣ. Въ самой лѣсной глуши онъ нашелъ большiя села. Онъ спустился
къ нимъ. Бревенчатыя избы хранили вѣковой Петровскiй укладъ. Ранцева
встрѣтили спокойно и радушно. Предки этихъ людей были еще Петровскими
землепроходцами, поселенными мудрою волею Великаго Императора и съ тѣхъ
поръ забытыми всѣми. Дороги, протоптанныя ими, заросли лѣсомъ, и
никто сотни лѣтъ къ нимъ не ѣздилъ. Поколѣнiе смѣняло
поколѣнiе, внѣшняя жизнь къ нимъ не шла. Эти люди, въ старыхъ
Петровскихъ старшинскихъ цѣпяхъ встрѣтившiе Ранцева, ничего не
слыхали ни о Великой войнѣ, ни о революцiи. Они не знали о существованiи
желѣзныхъ дорогъ, и культуру они восприняли прямо съ аэроплана. Къ
Ранцеву вышли рослые, крѣпкiе бородатые люди въ длинныхъ шубахъ съ
высокими воротниками, точно соскочившiе съ картинъ Маковскаго. Они говорили на
старомъ полуславянскомъ языкѣ. Всѣ они были старообрядцы и
имѣли свои молельни и своихъ начетчиковъ. Они пригласили Ранцева въ избу,
куда онъ просилъ собрать всѣхъ стариковъ.
Какъ длинную, хитрую сказку слушали они въ разсказѣ
Ранцева исторiю Россiи за два вѣка.
— Вы понимаете, старики, безъ Царя Россiи не
быть, — сказалъ въ заключенiе своего разсказа Ранцевъ.
— Какъ не понимать … Вѣстимо, не быть.
— Новому Царю надо войско крѣпкихъ и
вѣрныхъ людей. Мнѣ и повелѣно такихъ людей набирать.
— Безъ вѣрнаго войска Царю не быть ….
Надо, старики, намъ помочь стать опять Московскому Государству … Порадѣть
надо намъ о Москвѣ. — сказалъ старшина.
Старики закивали головами.
— Рекрутовъ поставимъ тебѣ
отмѣнныхъ, самъ увидишь какихъ. На медвѣдя въ одиночку хаживали.
Ранцевъ видѣлъ ихъ старыя кремневыя
ружья и предвкушалъ удовольствiе выдавать имъ новенькiя французской работы
трехлинейныя винтовки.
Послѣ долгой, спокойной и мудрой
бесѣды было постановлено, что эти люди оповѣстятъ и другiя, такiя
же затерянныя въ лѣсной глуши села и поставятъ рекрутовъ на «большую
рѣку» какъ только выпадетъ снѣгъ и можно будетъ идти на лыжахъ.
— Чтобы намъ отъ долга своего отказываться, никогда
того у насъ и въ мысляхъ не было, да вишь ты какъ сложилось, никакая власть къ
намъ не прiѣзжала. Годовъ тридцать тому назадъ собаками исправникъ
ѣхалъ отъ воеводы главнаго, да не доѣхалъ, волки порвали его. А ты
ловко это на какой машинѣ по воздуху прилетѣлъ.
Раздавъ подарки старшинамъ и осмотрѣвъ
рекрутовъ — на диво былъ народъ, хотя сейчасъ въ гвардiю и совсѣмъ
нетронутые парни — Ранцевъ полетѣлъ обратно.
Въ этотъ забытый край онъ послалъ экспедицiю
строить дорогу и установить связь по радiо, чтобы слѣдить за правильной посылкой
рекрутъ и поставкой всего нужнаго для войска.
Вернувшись, онъ нашелъ генерала Броневскаго въ
хлопотахъ. По всѣмъ селамъ и деревнямъ уже были расквартированы роты. Къ
устью были наряжены тысячи подводъ, везли съ «Гектора» обмундированiе, снаряженiе,
уставы, пособiя и оружiе. По деревнямъ были посланы ремонтеры набирать лошадей
для кавалерiи, артиллерiи и обоза. Повсюду шла муштра и ученiе. Тутъ было не до
думъ, не до сладостныхъ и печальныхъ воспоминанiй и Ферфаксовъ, во всемъ
помогавшiй Ранцеву, понялъ, какъ былъ правъ Ранцевъ, что не позволялъ
себѣ думать о Валентинѣ Петровнѣ.
He обошлось и безъ наказанiй. Кое-кто
сидѣлъ въ холодныхъ карцерахъ на хлѣбѣ и водѣ. Человѣкъ
десять за коммунистическую пропаганду пошли подъ полевой судъ и на зарѣ
были разстрѣляны.
Все это населенiю нравилось. И наказанiя, и
судъ, и разстрѣлъ не вызвали осужденiя.
— Нельзя безъ этого. Строгость нужна прежде
всего. Люди стали совсѣмъ ни къ чему. Озорные стали люди.
Оскотинѣлъ народъ. Нельзя съ ними безъ острастки. Которые изъ комсомольцевъ
такъ и совсѣмъ языки распустили. Ты ему слово, а онъ тебѣ десять въ
отвѣтъ, а чтобы дѣло какое дѣдать, — тутъ слѣдовалъ
безнадежный жестъ рукою.
Нравилось народу и то, что за прошлое не взыскивали
и прошлаго не поминали. Кое-кого изъ вчерашнихъ чекистовъ взяли опять на
службу, нашили имъ на погоны «лычки» и они, вспомнивъ былую унтеръ-офицерскую
школу, съ усердiемъ и добросовѣстно стали помогать офицерамъ.
Команды, барабанный бой, а вскорѣ и
учебная стрѣльба не смолкали по деревнямъ и селамъ.
He обошлось и безъ войны. Только пока
сражались не новыя войска. Совѣтскiй центръ, не получая отвѣтовъ ни
изъ городовъ, ни изъ селъ, ни изъ каторжныхъ поселенiй, послалъ развѣдку.
Она погибла по неизвѣстной причинѣ гдѣ-то на трактѣ. Посланы
были аэропланы. Они тоже вдругъ вспыхнули въ небѣ и огненнымъ лоскутомъ
упали на землю.
Тѣ тридцать прекрасныхъ безшумныхъ
аэроплановъ, что вылетѣли въ разныя мѣста Россiи съ Россiйскаго
острова, были сосредоточены у Ранцева, въ его распоряженiя. По всей
границѣ были установлены слуховые посты, улавливающiе приближенiе
совѣтскихъ летательныхъ машинъ, и прежде чѣмъ аэропланы съ краснымъ
кругомъ и серпомъ и молотомъ на крыльяхъ, достигали новаго края, зажившаго
такою кипучею жизнью, имъ навстрѣчу вылетали безшумные и быстролетные
самолеты Аранова. Управляемые по радiо со слуховыхъ постовъ они легко находили
аэроплаыы большевиковъ, выпускали изъ кормового аппарата летучую мину и
взрывали ихъ въ вышинѣ. Занятый Ранцевымъ край былъ совершенно
изолированъ отъ Совѣтскаго союза.
На весну въ немъ намѣчалось открытiе
порта въ устьѣ той рѣки, гдѣ была каторга. Тамъ спѣшно
готовили пристани и молы и туда везли продукты промысловъ этого края: мѣха,
медвѣжьи и оленьи шкуры, мамонтову кость, рѣчной жемчугъ, мороженое
оленье мясо, дичь, рыбу и золото. Тамъ готовила свои торговыя операцiи торговая
контора, учрежденная Дрiянскимъ. Тамъ же ставили и рыбо-коптильный и консервный
заводы. Готовились жить, ни отъ кого не завися, все приготовляя свое.
Подъ дыханiемъ порядка и свободы мертвый и холодный
край оживалъ.
Былъ конецъ октября. Ранцевъ съ Ферфаксовымъ
возвращались изъ служебной поѣздки.
Ферфаксовъ высунулъ носъ изъ дохи и повернулъ
лицо къ Ранцеву.
— Знаешь, Петръ Сергѣевичъ, сколько
сегодня было градусовъ, когда мы выѣзжали изъ Покровскаго?
— Ну …
— Сорокъ ниже ноля.
— Я и не замѣтилъ …. Что значитъ въ
напряженной работѣ и вниманiи къ своему дѣлу … Да безвѣтряный
морозъ — не морозъ.
Лошади съ заиндевѣлою, закурчавившеюся
шерстью бойко бѣжали по крѣпкому промерзлому снѣгу. Зимнiя
сумерки стыли кругомъ. Вдали показались огни освѣщенныхъ оконъ селенiя.
— А тамъ, — помолчавъ, сказалъ Ранцевъ, — на
Россiйскомъ острову, пожалуй, теперь всѣ сорокъ градусовъ выше ноля, и
бѣдный нашъ Ричардъ Васильевичъ томится поди-ка цѣлыми сутками у
радiо-аппарата. Пойду сейчасъ порадую его успѣхами организацiи
Россiйскаго войска. Вѣдь мы сегодня смотрѣли первые эскадроны, сформированные
здѣсь! …
X.
Хмурою, iюльскою, безлунною ночью аэропланъ,
на которомъ летѣли Нордековъ съ Парчевскимъ, приземился на окраинѣ
деревни Коломягъ на зацвѣтающемъ картофельномъ полѣ. Нордековъ,
Парчевскiй и четверо спецiалистовъ по газовой оборонѣ выпрыгнули изъ кабины
и стали вытаскивать ящики и корзины.
— Ну … Храни васъ Господь, — приподнимая авiаторскiй
шлемъ, сказалъ летчикъ.
— Спасибо … Летите? — сказалъ Нордековъ. Его таки
укачало во время полета. На душѣ было невыразимо тоскливо. Жуткiй страхъ
охватилъ его, Онъ съ трудомъ сдерживалъ волненiе. Зубы ляскали по зубамъ.
— А какъ же. Оборони Богъ, не увидадъ бы кто.
Аэропланъ дрогнулъ и безшумно взмылъ къ темному въ дождевыхъ тучахъ небу. Шесть
человѣкъ остались
на полѣ.
Они оглядѣлись. Тихая, полная тумана,
точно настороженная ночь была кругомъ. Картофельное поле полого спускалось въ
неглубокiй оврагъ. Надъ головами было черное небо. Вдали въ немъ отражалось
розовое зарево огней Петербурга. Въ воздухѣ было холодно и сыро — вотъ
вотъ польетъ дождь.
Парчевскiй, —онъ видѣлъ, что Нордековъ
еще не пришелъ въ себя и не можетъ распоряжаться, — послалъ двоихъ на
развѣдку, поискать какую-нибудь крышу. Прошло около часу. Наконецъ
раздались осторожные шаги.
— Вы, Голубевъ? — окликнулъ подходившаго Парчевскiй.
— Я, господинъ полковникъ. Пожалуйте, идемте.
— Я останусь при вещахъ. Георгiй Димитрiевичъ пойдетъ
съ вами.
— He извольте безпокоиться. Вотъ они и наши люди.
Они все заберутъ.
Накрапывалъ дождь. По мокрой картофельной листвѣ,
спотыкаясь о гряды, спустились въ оврагъ, перешли его и на другой сторонѣ
увидали, какъ сквозь доски большой риги просвѣчивалъ свѣтъ
дорожнаго электрическаго фонарика.
— Помѣщенiе хоть куда, пока другого въ
городѣ не присмотримъ, — сказалъ, оглядывая чистую пустую ригу,
Парчевскiй. — Видно не все еще товарищи растащили. Вы куда же, Голубевъ?
— Я пойду съ Карнеевымъ лучевыя завѣсы
поставлю, моторъ установлю. Вамъ покойнѣе будетъ, а Ломовъ съ
Дубровниковымъ вамъ койки поставятъ, да чайку согрѣютъ.
При свѣтѣ одинокой свѣчи,
вставленной въ дорожный подсвѣчникъ, ужинали. Мѣрный и крупный обложной
дождь барабанилъ по тесовой крышѣ. Въ углу протекало. Тамъ лилась тонкая
струйка воды и звенѣла съ тихою грустью въ накопившейся лужицѣ.
— Ну что-то Богъ завтра дастъ, — потягиваясь,
сказалъ Парчевскiй, — вѣдь я родился и выросъ здѣсь, Георгiй Димитрiевичъ.
Въ Саперномъ переулкѣ моя Родина. Найду ли я свой домъ? … Какъ странно,
странно … «Опять на Родинѣ … Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли,
гдѣ я провелъ отшельникомъ три года незамѣтныхъ». Помните, Георгiй
Димитрiевичъ, у Пушкина … «Здравствуй племя, младое, незнакомое» … Какое-то племя
насъ завтра встрѣтитъ? … Боже мой! … Коломяги! … Сколько лѣтъ
дѣтьми мы проводили здѣсь на дачѣ. Кажется, вчера выѣхалъ
только. И паркъ Орлова Денисова помню съ его озерами и бѣлыми лодками, и
дворецъ съ пушками, отнятыми у французовъ въ двѣнадцатомъ году и
танцульку съ полукруглой раковиной для музыкантовъ … Кажется, вчера танцовалъ я
тамъ съ розовенькими гимназисточками вальсъ и польку … А теперь вотъ ни вальса,
ни польки никто и не танцуетъ. И тамъ же подлѣ площадки по кустамъ и
лужайкамъ играли мы весело въ «казаки и разбойники».
Ломовъ, разставлявшiй койки, прислушался къ тому,
что говорилъ Парчевскiй, поднялъ голову и сказалъ:
— Въ игрѣ этой, господинъ полковникъ,
помните, былъ «домъ» и кто добѣжалъ до дома, того уже и «пятнать» нельзя.
Вотъ и у васъ такой домъ будетъ.
— Да, добѣжать бы только, — съ тяжелымъ
вздохомъ сказалъ Нордековъ. Онъ послѣ выпитаго чая отошелъ немного. — Что
же, господа, будемъ ложиться. Утро вечера мудренѣе.
— Штрафъ, господинъ полковникъ, — сказалъ Ломовъ.
— Эка вы «господъ» вспомнили. Въ Ленинградѣ-то!
— Вы тоже хороши. «Господинъ полковникъ»!
— Да уже, простите, больно противно «товарищемъ»
васъ называть.
— Вотъ какъ обернулось, за каламбуръ можно посчитать.
Хорошо, если «господинъ полковникъ» не обидится.
— Ну, полноте, — смутился Ломовъ.
— Такъ кѣмъ же мы будемъ? — зѣвая,
сказалъ Парчевскiй, стягивавшiй съ ногъ сапоги.
— Думаю, какъ придется, — залѣзая въ
кожаный мѣшокъ, сказалъ Нордековъ. — И казаками и разбойниками. А
прiятно, знаете, устроить и себѣ тоже своего рода экстерриторiальность …
Совсѣмъ я теперь въ родѣ какого-то совѣтскаго полпреда
оказываюсь. Ну-ка, товарищи, суньтесь!
— Боюсь, что погибнутъ просто невинные
дачники. Пойдутъ по грибы, попадутъ вотъ подъ этакiй дождище, кинутся къ
ригѣ, а ихъ тутъ Голубовъ своими газами и прихлопнетъ.
— А какъ же иначе, — лѣнивымъ барскимъ
голосомъ проговорилъ Нордековъ. — Пусти-ка ихъ сюда!.. Мигомъ донесутъ.
Вѣдь одна такая жестянка — онъ показалъ на жестянку съ французскимъ
печеньемъ, — къ стѣнкѣ и никакихъ гвоздей!..
— Гдѣ лѣсъ рубятъ — щепки летятъ,
— сказалъ спокойно Парчевскiй.
— Мы, товарищъ, «капучiй» не пустимъ.
Зачѣмъ? Увидимъ — дачники, ну и пустимъ «смѣхачъ». Пусть немного
посмѣются, а то, говорятъ, здѣсь люди и смѣяться
совсѣмъ разучились, — сказалъ Ломовъ.
— Кто у аппарата? — спросилъ Нордековъ.
— До четырехъ часовъ Голубовъ, послѣ я.
— Не проспите?
— Не безпокойтесь, «товарищъ». Я во время
полета, почитай, все время спалъ.
— А я никакъ не могъ, — жалобно изъ-подъ
одѣяла сказалъ Нордековъ. — Меня совсѣмъ укачало. И сейчасъ голова
трещитъ, какъ послѣ большого загула … Ахъ, было времячко, гуливали мы
таки на маневрахъ подъ этимъ самымъ Санктъ-Петербургомъ.
— А странно опять вотъ эдакъ заснуть въ
ригѣ подъ самымъ Петербургомъ. Точно и правда на маневрахъ. И дождь какой
родной! Шумитъ, миляга. Какое все родное: — Коломяги, а тамъ Шувалово и
лѣсъ … Тамъ дальше Парголовскiя высоты — Петербургская Швейцарiя,
Левашово, Токсово и повернуть назадъ — Мурино, Ручьи, Гражданка и Лѣсной
… Боже мой, Боже мой, неужели завтра я увижу зти мѣста? Завтра въ Петербургѣ?
… Засну ли я? … Сколько воспоминанiй!
— Спокойной ночи, — сказалъ Нордековъ.
— Спокойной ночи, — отвѣтилъ Парчевскiй.
Ломовъ погасилъ свѣчу и вышелъ изъ риги.
Онъ сталъ подъ краемъ крыши. Ночь была темна. Ни зги не было видно. Кругомъ
шумѣлъ холодный, обложной Санктъ-Петербургскiй дождь.
XI.
Къ утру дождь пересталъ. Серебристый туманъ стлался
надъ землею. Едва свѣтало, когда всѣ спавшiе въ ригѣ встали,
вернувшiйся съ поста Голубовъ сготовилъ чаю, всѣ обрядились въ костюмы
для развѣдки.
— Н-да, кавалеры … Въ такихъ на avenue de l’Opéra самое
мѣсто, — сказалъ, оглядывая свои босыя ноги въ опоркахъ, Парчевскiй.
— Молодчина все-таки этотъ Дрiянскiй, здорово
обрядилъ насъ, — сказалъ Нордековъ. — Я и бороду, какъ сѣлъ на аэропланъ,
такъ и не брилъ. Парчевскiй, дай-ка зеркало. Поди, хорошъ.
— Настоящiй совѣтскiй гражданинъ,
буржуемъ ничуть не пахнетъ.
Парчевскiй вышелъ изъ риги.
— Какъ странно быть безъ галстуха … Глупая привычка.
А какъ-то будто неловко.
Онъ потянулъ носомъ.
— Какой воздухъ!.. He даромъ сказалъ
Карамзинъ: — «Родина мила сердцу нашему не мѣстными красотами, не
благодатнымъ климатомъ» …
— Да ужъ климатъ. Селедка пять копѣекъ,
— сказалъ Голубовъ.
— Хорошо, товарищъ, кабы такъ. Поди хорошей-то
селедки только въ магазинѣ для интуристовъ и найдешь, а намъ теперь
переходи на положенiе лишенцевъ, клади зубы ка полку.
Туманъ густѣлъ, садясь на землю.
Студеная роса холодила лицо.
Парчевскiй провелъ ладонями по щекамъ.
— Роса-то душистая какая! И умываться не надо.
— Что вы, — сказалъ вышедшiй изъ риги спецiалистъ
по газамъ Дубровниковъ. — Да какой же совѣтскiй гражданинъ когда
умывается.
— Да привыкать надо къ «тутэшнимъ» порядкамъ.
Это не отель «модернъ» съ проведенной холодной и горячей водой, съ газомъ и
электричествомъ. Теперь станемъ жить по Зощенкѣ.
На ихъ глазахъ точно съѣдало туманъ. Онъ
осыпался мелкимъ дождикомъ. Наверху вдругъ открылись голубые просторы и
брызнуло оттуда золотыми слѣпящими глаза солнечными лучами. Внизу пелена
тумана была еще густа и надъ ея поверхностью, точно на сѣромъ, спокойномъ
морѣ плыли дачныя крыши, верхушки кудрявыхъ березъ, палисадниковъ и
«линiй» Коломягъ.
Когда Парчевскiй и Нордековъ дошли до деревни,
они разстались. У каждаго была своя задача, своя явка. По одиночкѣ казалось
безопаснѣе, да и если погибнетъ, попадется, — попадется одинъ, а не два.
У каждаго на такой случай было въ боковомъ карманѣ механическое
вѣчное перо, которымъ ихъ снабдилъ профессоръ Вундерлихъ. Это «стило»
было дешеваго, совсѣмъ «совѣтскаго» вида. Оно было сдѣлано по
образцамъ, полученнымъ отъ «акцiонернаго общества» «Международная книга», фабрики
«Союзъ». Въ немъ было сдѣлано особое приспособленiе и, если нажать пружинку,
то на того, кто вздумалъ бы арестовать кого-нибудь изъ нихъ, найдетъ,
примѣрно, на полчаса столбнякъ, онъ потеряетъ способность соображать
что-либо и двигаться. А за полчаса можно быть далеко.
Парчевскiй, огибая Удѣльный паркъ,
пошелъ по Марiинской улицѣ къ Финляндской желѣзной дорогѣ.
Онъ рѣшилъ ѣхать поѣздомъ. Нордековъ бодро шагалъ по
Коломяжскому шоссе къ Новой деревнѣ …. Совѣтскiя опорки ловко
сидѣли на босой ногѣ — хорошо ихъ пригналъ Нифонтъ Ивановичъ на
Россiйскомъ островѣ, — ноги сами шли. Волненiе бурлило кровь. Все
тѣло стало напряженнымъ и сильнымъ, голова работала съ поразительною
ясностью.
Маленькiя таратайки, запряженныя пузатыми съ
сѣннымъ брюхомъ чухонскими лошадьми обгоняли Нордекова. Коломяжскiя крестьянки
везли въ жестяныхъ кувшинахъ молоко въ городъ. Онѣ были такiя же какъ ихъ
съ дѣтства помнилъ Нордековъ. На тонкихъ и широкихъ дугахъ тихо позванивали
колокольчики. Изъ-подъ пестрыхъ потрепанныхъ платковъ сурово смотрѣли загорѣлыя
красныя лица.
Нордековъ перешелъ Строгановскiй мостъ,
пересѣкъ Каменный островъ и вошелъ на улицу «Красныхъ зорь». Нева синѣла
и золотыми искорками горѣли ея маленькiя волны, поднимавшiяся отъ
набѣгавшаго вѣтерка. По рѣкѣ скользили шлюпки.
Полуголые молодые люди въ трусикахъ гребли на нихъ мѣрчо и сильно,
спортивнымъ, любительскимъ ритмомъ. Надъ рѣкою съ Коломяжскаго аэродрома
пролетѣлъ аэропланъ. Первые трамваи — 2-й и 31-й номера обогнали Нордекова.
Онъ не рискнулъ сѣсть въ нихъ. Они были биткомъ набиты людьми. Люди
стояли на площадкахъ и на ступенькахъ. Городъ просыпался. Совслужащiе
спѣшили по мѣстамъ.
Нордековъ шелъ по хорошо знакомому проспекту.
Какъ и раньше дома стояли тѣснымъ рядомъ. Кое-гдѣ пооблупилась
штукатурка, но окна блестѣли на солнцѣ, и, казалось, за ними былъ
тотъ Петербургскiй уютъ и тепло, которые такъ любилъ Нордековъ. Сердце щемило воспоминанiями.
Здѣсь познакомился онъ съ Лелей Олтабасовой и здѣсь протекла ихъ
нѣжная и горячая любовь. По этому проспекту, по этой мостовой, мимо этихъ
домовъ, онъ ѣздилъ съ ней на лихачѣ. Онъ вспомнилъ ихъ медовый
мѣсяцъ и уютные завтраки на Каменномъ островѣ у Кюба-Фелисьена. Да,
все это было, но какъ будто и есть. Не такимъ представлялъ себѣ Петербургъ
Нордековъ no эмигрантскимъ газетамъ. Ему казалось, что онъ долженъ идти между
разломанныхъ домовъ, съ разбитыми стеклами, по улицамъ пустынно мертвымъ,
гдѣ нѣтъ никого и гдѣ изъ-за каждаго угла смотритъ смерть.
Ничего этого не было. Городъ жилъ утренней жизнью, какъ жили и другiе
европейскiе города. Немного острѣе былъ запахъ помоевъ, грязнѣе
троттуары, и на мостовой вѣтеръ сушилъ вчерашнiя лужи.
Молодой человѣкъ съ открытымъ
улыбающимся лицомъ, въ рубашкѣ безъ галстуха, въ пестрыхъ въ полоску
штанахъ, съ книгами подъ мышкой, безъ шляпы, стриженый по модѣ, какъ и
его Мишель Строговъ стригся, на темени кустъ торчащихъ волосъ и бритые виски
шелъ, направляясь прямо на Нордекова.
— Гражданинъ, скажите, какъ пройти на улицу товарища
Скороходова?
Нордековъ остановился. Недоумѣнiе было
на его лицѣ. Студентъ? … Нордековъ привыкъ видѣть студентовъ въ
формѣ, быть можетъ, и бѣдно, но опрятно одѣтыхъ, этотъ … Кто
онъ? И вспомнилъ — Вузовецъ.
— Можетъ, не знаете, раньше была Большая Монетная?
Нордековъ совсѣмъ смутился. Онъ
прекрасно зналъ, гдѣ была Большая Монетная. Пройти еще шаговъ пятьсотъ и
проспектъ пересѣчетъ эта улица. Но признать, что онъ знаетъ Большую
Монетную и не знаетъ улицы «товарища Скороходова», — показать, что онъ
прiѣзжiй. Въ каждомъ встрѣчномъ Нордековъ видѣлъ агента
Гепеу, шпiона, доносчика. Кто этотъ веселый молодой человѣкъ съ быстрыми
насмѣшливыми глазами? Дѣйствительно Вузовецъ, или … Нордековъ уже
взялся за стило.
— He знаю, гражданинъ, не знаю-съ, — быстро
сказалъ онъ.
«Приподнимать каскетку или нѣтъ», —
мелькнуло въ головѣ. «Провалился … пропалъ … Первый блинъ комомъ», —
думалъ онъ и не зналъ, что же дѣлать, но Вузовецъ быстро кинулъ:
— Извиняюсь, —и пошелъ дальше.
«Вотъ она и Большая Монетная, а вѣдь
тотъ молодой человѣкъ идетъ въ противоположную сторону. Позвать его?..
Нѣтъ, онъ уже далеко. Чего добраго завяжется разговоръ, ну и влипну» …
На углу стояла желѣзная тумба для
окурковъ и бумагъ. Шестъ съ вывѣской, гдѣ было написано: — «улица
имени тов. Скороходова» и указатель номеровъ домовъ торчалъ сбоку.
Совсѣмъ какъ въ Берлинѣ!
Солнце пригрѣвало. Отъ мокрыхъ
асфальтовъ поднимался прозрачный паръ. Нордековъ выбрался на Невскiй.
Здѣсь было чище. Кое-гдѣ яркая раскраска домовъ и громадныя
аляповатыя въ кубистическомъ стилѣ намалеванныя афиши на круглыхъ будкахъ
рѣзали глазъ, но это былъ тотъ же Невскiй, какимъ зналъ его Нордековъ.
Онъ читалъ вывѣски. «Промбанкъ», «Ленинградскiй коммунальный банкъ», «Ленинградское
соединенное общество взаимнаго кредита» … Какъ-то не совмѣщалось это съ
представленiемъ о государствѣ, гдѣ капиталъ отмѣненъ. Въ
окнахъ книжнаго магазина были разложены книги. Нордековъ остановился передъ
ними. Надъ магазиномъ была вывѣска: «Рабочее издательство «Прибой».
Нордековъ зналъ эти книги. Ястребовъ показывалъ и заставлялъ учить ихъ. «Библiотека
для всѣхъ», «Ленинская библiотека», «Коммунистическiй Университетъ на дому»,
«Ленинскiй Комсомолъ», «Искра» … Все это за зеркальнымъ стекломъ магазина показалось
Нордекову особенно внушительнымъ. Нордековъ отошелъ отъ окна и посмотрѣлъ
еще разъ на Невскiй. Онъ былъ все тотъ же милый, родной Невскiй. Такой, какъ
былъ во времена воспѣвшихъ его Пушкина и Гоголя. И каланча надъ Думой и
вдали, надъ зеленою полосою Александровскаго сада, Адмиралтейская игла съ
золотымъ корабликомъ. Панели Пудожскаго камня, асфальтовые троттуары и перевернутый
для ремонта торецъ, съ рогатками по сторонамъ. Звонили трамваи. Они неслись
цѣлою чередою: 12-й, 23-й, 14-й и 7-й. Все было какъ и прежде.
Нѣтъ, это только такъ казалось. Городъ
остался. Дома остались, трамваи остались, но былъ городъ точно завоеванъ
непрiятелемъ. Толпа на Невскомъ была не та. Нордековъ долго подбиралъ
сравненiе. Точно пожаръ выгналъ на улицу обитателей гостинницы, и они выскочили,
кто во что успѣлъ одѣться. Пожилой человѣкъ съ пухлымъ, бритымъ
актерскимъ лицомъ шелъ навстрѣчу. На немъ была рубашка, желтоватые,
просторные штаыы съ помочами и обнажекная лысая голова. Онъ шелъ медленно. Его
костюмъ не стѣснялъ. Какъ не стѣснялъ онъ никого здѣсь. Блузки,
небрежно подоткнутыя подъ юбки, короткiя платья, мало кто изъ женщинъ былъ въ
чулкахъ, мало кто въ шляпкѣ, какъ и мужчины — большинство безъ шляпъ. Во
всѣхъ какое-то «опрощенiе», какое-то «наплевательство» надъ костюмомъ и
модой и будто вызовъ самимъ приличiямъ. Бѣдность? Нѣтъ, не только
бѣдность, но и умыселъ. И такъ это было странно видѣть въ
Державномъ, всегда такомъ подтянутомъ Петербургѣ!
Встрѣчались и красноармейцы и, должно
быть, курсанты. Они казались щеголевато и хорошо одѣтыми. Но когда
вглядѣлся въ нихъ Нордековъ, онъ понялъ, что они только казались хорошо одѣтыми, казались
на фонѣ этой грязной и бѣдной толпы. Ихъ смятыя фуражки съ небрежно
пришпиленной красной звѣздой, ихъ шаровары съ уродливыми «бриджами», пузатыми
на короткихъ нестройныхъ ногахъ, ихъ плохо одернутыя рубашки и грубый ремень:
все это было низко-сортное и отнюдь не щегольское.
Вдали, какъ видѣнiе прошлаго, какъ
призракъ стараго Петербурга, шла старуха. На ней была большая старомодная черная
шляпа, длинная юбка спускалась до самыхъ носковъ. Тонкiй, горбатый носъ на
блѣдномъ, цвѣта слоновой кости лицѣ заострился, какъ у мертвеца,
голодныя складки легли вдоль щекъ. По нимъ шли нездоровыя коричневыя пятна …
Человѣкъ, несшiй передъ нею корзину сливъ, обронилъ одну и она упала въ
грязь и разбилась. Старуха быстро оглянулась и, хищнымъ движенiемъ нагнувшись,
подобрала и спрятала сливу въ рукавѣ. Дѣвушки съ молодыми людьми
увидали ея движенiе. Они злобно покосились на старуху, оскалили молодые
крѣпкiе зубы и скуластая дѣвица съ гадкой усмѣшкой крикнула
на всю улицу:
— Поди изъ графьевъ какихъ! … Барыня была! …
Побируха старая!..
Вся компанiя захохотала.
Ее, этотъ призракъ стараго, умершаго
Петербурга они только терпѣли. Они — завоеватели! … Строители новой, прекрасной
жизни!
Нордековъ вспомнилъ, какъ однажды сказалъ его
сынъ, Шура, его тещѣ, что людей старше шестидесяти лѣтъ надо
усыплять … Эту не усыпили … Ей дали жить … Но … какъ!!.
Холодныя струи побѣжали по спинѣ
Нордекова. Стало страшно. Онъ ускорилъ шаги. Думскiе часы показывали
приближенiе часа, когда еще на Россiйскомъ ост
рову было условлено
свиданiе съ мѣстнымъ «братомъ Русской Правды» …
XII.
Было воскресенье. Въ церкви, куда вошелъ Нордековъ,
шла литургiя. И тутъ было не то, чего ожидалъ Нордековъ. Церковь не была полна.
Она не «ломилась» отъ молящихся, но она и не была пуста. И не были въ ней
только старики и старухи. Много было и молодежи, Вузовскаго и рабочаго вида.
Стройно и хорошо пѣлъ маленькiй хоръ изъ восьми человѣкъ. Старый
священникъ служилъ съ умилеиною вѣрою.
Обѣдня приходила къ концу. Причетникъ
вынесъ маленькую скамеечку — будетъ колѣнопреклоненная молитва. Кто
опустился на колѣни, кто остался стоять. Нордековъ не преклонилъ
колѣнъ: — такъ легче оглядѣть прихожанъ.
На священникѣ старыя, очень потертыя
ризы. Онъ съ большими страдающими, изступленными глазами, неровной торопливой походкой
прошелъ на середину храма.
— «О, премилосердный, всесильный и
человѣколюбивѣйшiй Господи, Iисусе Христе, Боже нашъ, Церкви
Зиждителю и Хранителю», — началъ онъ въ мертвой молитвенной тишинѣ храма.
Чуть раздались вздохи и кто то едва слышно всхлипнулъ.
— «Воззри благосерднымъ окомъ Твоимъ на сiю люто
обуреваемую напастей бурею.
«Ты бо реклъ еси, Господи: «Созижду Церковь
Мою и врата адовы не одолѣютъ Ю».
Нордековъ чувствовалъ старый, такъ привычный
«церковный» запахъ кругомъ. Этому запаху воска, лампаднаго масла и ладана —
вѣка. Онъ вошелъ и впитался въ самыя стѣны. Онъ точно
оттѣнялъ и усиливалъ слова, такъ сильно звучавшiя на славянскомъ
языкѣ и по старинному говорившiя о близкомъ, сегодняшнемъ.
— «Помяни обѣщанiе Твое не ложное: — «Се
Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанiя вѣка», — со знойною, страстною
вѣрою выкрикнулъ священникъ.
«Буди съ нами неотступно, буди намъ милостивъ,
— молитъ Тя многострадальная Церковь Твоя, — укрѣпи насъ въ
правовѣрiи и любви къ Тебѣ, благодатiю и любовiю Твоею заблуждающiе
обрати, отступльшiе вразуми, ожесточенные умягчи.
«Подаждь, Господи, во власти сущимъ разумъ и
страхъ Божiй и вложи въ сердца ихъ благая и мирная о Церкви Твоей.
«Всякое развращенiе и жизнь, несогласную
христiанскому благочестiю, направи. Сотвори, да вси свято и непорочно поживемъ,
и тако спасательная вѣра укоренится и плодоносна въ сердцахъ нашихъ
пребудетъ.
«He отврати Лица Твоего отъ насъ, не до конца
гнѣвающiйся Господи. Воздаждь намъ радость спасенiя Твоего.
«Всяку нужду и скорбь людей Твоихъ, огради насъ
всемогущею силою Твоею отъ напастей, гоненiй, изгнанiй, заключенiй и озлобленiй,
да Тобою спасаеми, достигнемъ пристанища Твоего небеснаго и тамо съ Лики чистѣйшихъ
небесныхъ силъ прославимъ Тебѣ, Господа и Спасителя Нашего со Отцомъ и
Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ» …
Во время чтенiя этой новой и показавшейся Нордекову
необычайно смѣлой молитвы, онъ разсмотрѣлъ пожилого человѣка,
стоявшаго у иконы Божiей Матери на колѣняхъ. Онъ былъ въ свѣтлыхъ
штанахъ, въ темной рубашкѣ и башмакахъ на босу ногу. Такъ онъ и былъ
описанъ Ястребовымъ на Россiйскомъ острову.
Священникъ вышелъ читать заамвонную молитву. Молящiеся
начинали выходить. Нордековъ подошелъ къ образу Божiей Матери и опустился на
колѣни подлѣ человѣка въ темной рубашкѣ. Тотъ искоса
взглянулъ на Нордекова и согнулся въ земномъ поклонѣ. Въ тотъ же мигъ изъ
за ворота его рубашки выскочилъ небольшой темный крестъ. Нордековъ успѣлъ
увидѣть — «братскiй крестъ». Незнакомецъ поспѣшно спряталъ его за
пазуху.
Все шло, какъ по писанному. Это ободрило
Нордекова. Онъ нагнулся къ полу и прошепталъ:
— Коммунизмъ умретъ — Россiя не умретъ.
Незнакомецъ не дрогнулъ, что называется «и ухомъ не повелъ». Онъ сталъ еще сильнѣе
креститься и съ страстнымъ надрывомъ, истово, склоняясь въ земномъ поклонѣ,
въ молитвенномъ экстазѣ довольно громко сказалъ:
— Господи, спаси Россiю!
И сейчасъ же, не глядя на Нордекова всталъ съ
колѣнъ и пошелъ изъ церкви. Нордековъ пошелъ за нимъ. Онъ нагналъ его на
улицѣ идущимъ съ низко опущенной головой. Они свернули въ переулокъ. Тутъ
было безлюдно. Человѣкъ въ темной рубашкѣ повернулся лицомъ къ
Нордекову и быстро и нервно бросилъ:
— Давайте!
Нордековъ подалъ ему отрѣзокъ игральной
карты съ кривымъ завиткомъ. Незнакомецъ сличилъ его съ достаннымъ имъ изъ
кармана другимъ отрѣзкомъ карты, облегченно вздохнулъ и сказалъ:
— Пойдемте вмѣстѣ. Только не въ
ногу. Вы идите своимъ шагомъ … Я пойду частымъ. И пока молчите.
Такъ прошли они долго, избѣгая большихъ
улицъ, и вышли, наконецъ, на набережную Невы. У гранитной скамьи на
полукругломъ выступѣ, гдѣ никого не было и вообще мѣсто было
тихое незнакомецъ предложилъ Нордекову сѣсть.
— Не устали? Мы то привыкли ходить.
Бѣгунами сдѣлались. Ничего что на камнѣ? … Говорятъ не
хорошо, да мѣсто за то тихое. И мильтонъ далеко.
Передъ ними были запущенныя зданiя большихъ
дворцовъ. Сзади тихо плескала Нева. Свѣжiй вѣтерокъ набѣгалъ
съ моря. Чѣмъ то роднымъ и милымъ вѣяло отъ него Нордекову. Вдали
немолчно шумѣлъ и греготалъ городъ … Родной городъ Санктъ-Петербургъ, или
хужой — Ленинградъ?
XIII.
— Ну что, посмотрѣли нашу столицу? …
Прекрасную нашу Сѣверную Пальмиру, — началъ незнакомецъ. — Уже
маленькаго, поверхностнаго взгляда достаточно, — вы вѣдь не интуристъ, —
сами Петербуржецъ, такъ поймете что это такое! … Сумасшедшiй домъ! … Въ немъ
еще кое-гдѣ бродятъ призраки … Тѣни прошлаго … Ихъ мало … Этого
прошлаго, какъ огня боятся … Его — не было. Понимаете, ни Николая Второго, ни
Александровъ, ни Екатерины какъ бы не существовало. Они только Петра I кое какъ
допускаютъ. Они его революцiонеромъ считаютъ, тоже въ родѣ какъ бы
большевикомъ. А впрочемъ вообще то у нихъ исторiя съ «октября» начинается.
«Рысыфысыры», а потомъ эти самые совѣты. Больше ничего. Какъ поется у
насъ: — «во и во, ну и больше ничево» … Такъ имъ старики то эти самые вотъ какъ
еще опасны. Они помнятъ, а помнить теперь запрещено. У насъ — молодежь. Она
ничего не знаетъ, ничего не видала. Тѣ, кому было три года, когда пришла
эта самая совѣтская власть. Вотъ эти то и есть самые ихъ горячiе
поклонники. Что они видали? Они, какъ прозрѣли — увидали себя въ совѣтской школѣ
второй ступени, Они учились въ холодныхъ классахъ, гдѣ замерзали чернила,
учились безъ пособiй, учебниковъ, безъ тетрадей, часто безъ карандашей. Въ
молодые годы я бывалъ въ Китаѣ. Я видалъ тамъ такiя же школы. Голодные
китайчата въ холодной фанзѣ хоромъ повторяли за учителемъ какiя то фразы
… Такъ вотъ тогда это въ Китаѣ было нормально и никого не удивляло.
Здѣсь это удивляетъ только насъ, старыхъ людей, — молодымъ это такъ же
нормально, какъ китайцамъ нормальной казалась ихъ холодная школа. Потомъ Вуз’ы
… Голодное и холодное существованiе въ уплотненныхъ квартирахъ, или еще того
хуже въ общежитiяхъ. Это, гражданинъ, каторга. Принудительно жить въ
тѣснотѣ, валяться на однихъ постеляхъ съ людьми, съ которыми ничего
общаго не имѣешь — это же, повторяю, самая жестокая каторга. Притомъ
самая лютая классовая ненависть между ними. Молодые люди и дѣвушки живутъ
вмѣстѣ, любовь, ревность, страсть выкинуты изъ ихъ обихода —
буржуазные предразсудки! … Одинъ «актъ», или, какъ съ жестокимъ остроумiемъ, съ
каторжнымъ остроумiемъ, сказалъ нашъ совѣтскiй писатель: — «стаканъ воды»
… Адъ!
— Какъ должны въ этомъ аду ненавидѣть
большевиковъ, — сказалъ тихимъ голосомъ Нордековъ.
— Вы думаете? — незнакомецъ прищурилъ глаза и
острымъ, непрiятнымъ взглядомъ посмотрѣлъ на Нордекова. — У васъ сигареты
навѣрно имѣются? … Поди еще и съ заграничнымъ табачкомъ … Угостите
по прiятельски. А то мнѣ эти наши «Тракторы», «Совѣты» да «Пушки»
25 штукъ — сорокъ копѣекъ до тошноты надоѣли. Только горло дерутъ …
А когда то славились табакомъ, между прочимъ … Богдановскiя, Месаксуди … Да
было! Было же!
Онъ долго и со вкусомъ раскуривалъ предложенную
Нордековымъ папиросу, потомъ продолжалъ съ жуткимъ спокойствiемъ, такъ не
отвѣчавшимъ смыслу его рѣчи.
— Ненавидятъ всякую власть. И чѣмъ
благороднѣе, выше, доступнѣе, скажемъ — красивѣе она, —
тѣмъ болѣе лютой ненавистью ее ненавидятъ. Нашего прекраснаго
Государя Императора, которому клялись въ «безпредѣльной преданности»,
котораго «обожали» — умѣли еще и какъ! ненавидѣть … Охотились за
нимъ.
— Особые люди. He тѣ, кто обожалъ его.
— Нѣтъ, гражданинъ, тѣ же самые
люди. Потому что онъ — власть! Потому что онъ — Государь … Вотъ поэтому онъ
слишкомъ двѣсти лѣтъ взятъ подъ подозрѣнiе и облѣпленъ
самою гнусною клеветой … Что, — вскрикнулъ незнакомецъ, — точно боялся, что
Нордековъ возразитъ ему, — неправда?! … Кто всякiя гнусности писалъ и съ кафедры
говорилъ про Домъ Романовыхъ? … Профессора, историки, публицисты, адвокаты …
Эти «безпредѣльно преданные» благоговѣли передъ Герценомъ,
Крапоткинымъ, Чернышевскимъ … Самые лучшiе наши поэты и писатели не прочь были
изъ подъ полы написать гадкiе стишки, сказать гнусность! … А вѣдь ядъ то
ея остается. Сто съ лишнимъ лѣтъ благоговѣли передъ мужикомъ,
ходили въ народъ … На демократiю молились. Соцiализмомъ смѣнили
христiанство. Вспахали и удобрили ниву и бросили въ нее сѣмена. Теперь —
собирайте урожай … Наша молодежь свою совѣтскую власть обожаетъ. Тоже —
«безпредѣльно ей предана». Молодежь воспитана въ слѣпотѣ и
она слѣпа. Что говорить слѣпорожденному о красотѣ природы и
объ игрѣ красокъ на солнечномъ лучѣ — онъ не пойметъ вашихъ
восторговъ …
Незнакомецъ притушилъ папиросу о гранитный парапетъ
набережной и послѣ нѣкотораго молчанiя тихо и очень сердечно
сказалъ:
— Вы присланы, чтобы поднять здѣсь
возстанiе … Вывести народъ на улицу …
Нордековъ не отвѣчалъ.
— Я понимаю ваше молчанiе … Цѣню его … И
крестъ Братскiй вы на мнѣ видали … За этотъ крестъ, если найдутъ —
разстрѣливаютъ … И отрѣзокъ карты я вамъ предъявилъ и все со мною
вышло, какъ вамъ сказали тамъ, гдѣ дали явку на меня, а вы все не
вѣрите. Правильно … Что жъ и я бы такъ же поступилъ … Здѣсь самому
себѣ иной разъ не вѣришь … А вдругъ встанешь, да и пойдешь самъ на
себя доносить, потому что надоѣстъ скрываться.
— Нѣтъ, помилуйте … Отчего же, — какъ то
смущенно заговорилъ Нордековъ. — Но, согласитесь, вашъ вопросъ … Здѣсь …
Меня прямо огорошилъ …
— Ахъ да … Мильтонъ недалеко … И Гороховая, не
за горами … А гдѣ же говорить то? … Возстанiе? … Вы хотите заставить
потечь рѣку снова по тому же руслу. Студенты, массовки … Рабочiе,
митинги! … Армiя, безпорядки … И надъ всѣмъ, какъ руководитель — интеллигенцiя!
… Либералы, народовольцы, нигилисты, соцiалисты, большевики! … Н-да … Задача.
Прежде всего интеллигенцiи — нѣтъ … Была, да вся вышла. Выведена въ
расходъ … Съ «бѣлой» армiей ушла заграницу, убита, забита, загнана въ тартарары.
А кто остался изъ этихъ «соцiалистовъ», пошелъ съ ними. И какъ было ему не
пойдти? Онъ воспитывался въ ненависти и презрѣнiи къ религiи — большевики
ему дали воинствующее безбожiе. Онъ ненавидѣлъ Императорскую власть — ему
преподнесли такую ненависть, какая ему и не снилась въ самыя злыя минуты его
жизни. Онъ презиралъ и не любилъ Россiю, ну такъ вотъ ея нѣтъ, вы
понимаете, это выдумать надо: — нѣтъ Россiи! … Слышите, ни Россiи, ни
Русскихъ нѣтъ, есть — Совѣты и есть совѣтскiе … Какъ же этимъ
то такую власть не обожать? У насъ не только совѣтскiй патрiотизмъ, у
насъ самый махровый совѣтскiй шовинизмъ …
— А кровь? … Какъ же они, въ большинствѣ
Толстовцы и непротивленцы, переварили всю большевицкую кровь, — сказалъ съ
убѣдительною силою Нордековъ.
— Ахъ, кровь?,.. Но ему давно вдолбили въ
голову, что при Царскомъ правительствѣ въ сто разъ было больше крови,
разстрѣловъ, пытокъ, казней и мученiй, въ сто разъ больше крови лилось.
Открыли архивы и доказали, понимаете, доказали, что это такъ … He забудьте, что
тутъ такая ложь, такая клевета, какой и самъ чортъ не придумаетъ. И голодъ и
нищета при «Царизмѣ» были въ сто разъ хуже! … Попробуйте сказать, что это
неправда. Кто скажетъ? … Все боится, все «безпредѣльно предано» … Въ
прежнее время все начиналось со студента. Кажется это въ «Бѣсахъ» я
читалъ, какъ «отъ Москвы и до Ташкента вся Россiя ждетъ студента». Вы были
студентомъ?
— He имѣлъ такой чести.
— Значитъ изъ юнкеровъ, военщина … Ну, можетъ
быть, слыхали и вы. Тогда … Землячества и сходки … Стаканы съ чаемъ и съ
пивомъ. Стриженыя курсистки, теперь этимъ не удивишь никого, а тогда стриженая
дѣвка была пугало … И пѣсни … Чего чего только не пѣли мы. И
«Дубинушку», и «Солнце всходитъ и заходитъ», «Нагаечку», «Варшавянку» и про
Байкалъ и этотъ самый «Интернацiоналъ», будь онъ трижды проклятъ, орали съ
дикимъ восторгомъ. «Вставай проклятьемъ заклеймленный» … Въ облакахъ сквернаго
табачнаго дыма, въ запахѣ пива и водки и это звучало прямо
великолѣпно. И представьте ни мало не боялись дворниковъ, и «шпиковъ». Mope
по колѣно … Устраивали сходки въ стѣнахъ самого университета.
Университетъ автономенъ! Подъ прикрытiемъ ректоровъ, профессоровъ и декановъ
разводили такую революцiю, что дальше идти некуда … И уже развѣ слишкомъ
разоремся: — «долой самодержавiе», придетъ полицiя и мирно заберетъ всѣхъ
въ манежъ для разборки … Ну вышлютъ кого въ мѣста не столь отдаленныя,
такъ вѣдь за то — какiе герои! … Вотъ эти то студенты, наэлектризованные
сходками, массовками, рѣчами и пѣснями шли на фабрики и вели рабочiя
толпы на улицы … Такъ вотъ этого студента больше нѣтъ. Который былъ, того
угробили. Вмѣсто него — Вуз’овецъ …
Нордековъ слушалъ и думалъ, что все это онъ
зналъ и раньше изъ лекцiй Ястребова и Субботина, все это онъ читалъ и въ
эмигрантскихъ газетахъ, но какъ то совсѣмъ это по иному звучало
здѣсь, на набережной Невы, когда только что онъ своими глазами видалъ и
говорилъ съ этимъ самымъ Вуз’овцемъ. Все было значительнѣе и
грознѣе. Онъ волновался предстоящей ему задачей, онъ не зналъ, какъ ему
къ ней приступить, онъ ожидалъ, что тотъ, кто долженъ посвятить его въ работу
его ободритъ, а онъ, вонъ какiя рѣчи заговорилъ!
Незнакомецъ продолжалъ, понизивъ голосъ.
— Вотъ мы съ вами, по костюму и по всему, — ну
пролетарiи, а, можетъ быть, просто лишенцы какiе нибудь, чтобы поговорить
должны сидѣть на вольномъ воздухѣ, ибо въ домахъ стѣны
слышатъ и стѣны доносятъ, а какъ же хотите, чтобы они то собрали такую
массовку, такую сходку, какiя собирались при «проклятомъ Царизмѣ» подъ
жесточайшимъ полицейскимъ гне-томъ? И мы говоримъ съ вами и боимся, боимся,
боимся, а вдругъ какой нибудь проклятый ершъ въ Невѣ да слушаетъ наши заговорныя
рѣчи и поплыветъ и донесетъ. Такъ какъ же вы хотите, чтобы
совѣтскiй то Вуз’овецъ устроилъ собесѣдованiе, ну хоть съ вами? …
Гдѣ? …
На совѣтской уплотненной квартирѣ,
гдѣ сидятъ такiе «хамусъ вульгарисъ», при которыхъ ни о чемъ говорить
кельзя? … Соберите теперешнихъ студентовъ, да никто и рта при нихъ не откроетъ,
ибо никто не знаетъ, который изъ товарищей служитъ «сексотомъ» у Гепеу. Какъ бы
настроите толпу пѣснями, когда мы и пѣсень то никакихъ не знаемъ?
Не «Боже Царя храни» намъ пѣть? … Надо еще эти то свои героическiя, душу
поднимающiя пѣсни создать.
— А частушки? — сказалъ Нордековъ, — въ нихъ
такъ много иронiи и насмѣшки надъ большевиками.
— Да иронiи и насмѣшки, только больше
надъ самими собою, чѣмъ надъ большевиками. И плаксивости русской въ нихъ
тоже не мало. Самый задоръ то ихъ какой то жалующiйся … Нѣтъ, не это намъ
надо. Нужна пѣсня героическая, чтобы сама на бой толкала, чтобы на улицу
звала, чтобы въ ней и барабанный бой и звуки трубъ слышались, такой пѣсни
нѣтъ у насъ … Не поютъ, да и не смѣютъ пѣть. Ну, скажемъ, и
соберутся наши вузовцы, такъ они то несчастные никогда не знаютъ кто донесетъ, но всегда знаютъ, что кто-то донесетъ навѣрно. Не запоешь
при такихъ условiяхъ героической пѣсни. Хожденiе въ народъ? … Да, пойди,
— угробятъ за милую душу … Повсюду комсомольцы, повсюду сель-коры — безъ лести
преданные оффицiальные доносчики … Нѣтъ не разсчитывайте на
нынѣшняго студента. Не негодуйте на него, что онъ не бунтуетъ.
Онъ не виноватъ. Онъ воспитанъ въ «китайской»
холодной школѣ, затвердилъ Ленинизмъ и въ Ленинизмѣ этомъ вся его
религiя. Онъ тупъ и необразованъ. Мертвой хваткой хватился онъ за скудную
науку, которую ему преподносятъ замерзающiе профессора, дрожащiе за свою шкуру
и съ упорствомъ тупицы лѣзетъ въ люди. Старается стать «выдвиженцемъ».
Звѣринымъ инстинктомъ понимаетъ онъ, что знанiя его ничтожны, что онъ
дуракъ и невѣжда и что дорога ему открыта только при совѣтской
власти. Только при ней подхалимствомъ и доносами можетъ онъ и со своимъ скуднымъ
багажомъ чего то достигнуть. Онъ понимаетъ, что всяческiе «уклоны» вредны и
опасны, надо быть стопроцентнымъ коммунистомъ и тогда: — качай! валяй! … Такъ,
какъ же заставите вы Вузовца кричать: — «долой совѣтскую власть». Она для
него все. Въ ней его карьера, его будущее … А что касается до чувства
справедливости, свойственнаго молодежи, ахъ, оставьте, пожалуйста, давно это
стало буржуазнымъ предразсудкомъ. Можетъ быть, въ какой нибудь другой молодежи
оно и есть, у насъ — «ударники» — то есть безъ лести преданные совѣтской
власти, вотъ кто царитъ надъ умами …
Незнакомецъ поежился плечами, протянулъ руку,
прося у Нордекова папироску и, закуривая ее, сказалъ.
— Знаете что … Мы что то все сидимъ на одномъ мѣстѣ
и бесѣда наша подозрительно долга. Мильтонъ второй разъ идетъ мимо насъ.
Простимся безъ лапанiя, это здѣсь не принято и разойдемся. Пройдемте въ
«садъ трудящихся» … Чувствуете всю глубину чисто Уэлльсовской сентиментальной
пошлости названiй нашихъ: «садъ трудящихся» — улица «красныхъ зорь», а, каково!
Пошлѣе ничего не придумаешь, а нашимъ швейкамъ и пишмашкамъ очень даже
нравится. Какъ же хотите вы повернуть опять къ старому Державному Санктъ-Петербургу,
къ блистательному Граду святого Петра, къ временамъ Екатерины, Александровъ и
Николаевъ, къ Растрелли и Воронихинымъ, къ Эрмитажамъ и Этюпамъ … Это уже
Ленинградъ — и навсегда … Итакъ въ «саду трудящихся» вы найдете меня у
памятника Пржевальскому, знаете, гдѣ у гранитной скалы лежитъ навьюченныйверблюдъ,
а наверху генеральскiй бюстъ генеральской работы генерала Бильдерлинга … Ну-съ
… Съ коммунистическимъ
привѣтомъ! … Пока! …
Незнакомецъ всталъ и пошелъ, широко разворачивая
носки своихъ старыхъ кожаныхъ туфель и чуть раскачиваясь. Онъ шелъ самой
безпечной походкой. На всей его фигурѣ было написано, что ему самъ чортъ
не братъ и что онъ въ этомъ самомъ Ленинградѣ подлѣ мильтоновъ и
чекистовъ чувствуетъ себя прекрасно. Нордековъ подождалъ немного и, перейдя
набережную, вошелъ въ Александровскiй садъ.
XIV.
Какъ все здѣсь напомнило ему его
дѣтство! Такъ же какъ и тогда плѣнительный ароматъ кустовъ, скошенной
травы и цвѣтовъ, свѣжесть испаряющейся росы, запахъ старыхъ
цвѣтущихъ липъ встрѣтилъ Нордекова въ «саду трудящихся». За
рѣшеткой и густою зарослью кустовъ звонили трамваи, изрѣдка,
дребезжа разбитыми рессорами, проносился автомобиль такси, и издалека, съ
площади грубымъ нечеловѣческимъ голосомъ объявлялъ что то громкоговоритель
… Гуляющихъ было мало. Часъ былъ обѣденный. Только дѣти играли недалеко
отъ памятника. Надъ кустами въ просвѣтѣ площади высились купола
Исаакiевскаго собора. Ихъ тусклое, облѣзлое золото такъ много говорило
сердцу Hopдекова.
Незнакомецъ издали увидалъ Нордекова. Онъ
всталъ со скамьи, гдѣ усѣлся въ ожиданiи, пошелъ навстрѣчу
полковнику, взялъ его подъ руку и зашепталъ на ухо:
— Надо отдать справедливость, васъ тамъ
удивительно одѣли и загримировали. Васъ выдаютъ только глаза.
— А что въ нихъ? — не безъ тревоги спросилъ Нордековъ.
— Очень они у васъ живые и въ тоже время спо
койные. Тутъ или мертвые, какъ у уснувшей рыбы, или горящiе сумасшедшимъ
огнемъ, полные революцiоннаго пафоса. Середины и, главное, спокойствiя
нѣтъ. Или комсомольскiй сумасшедшiй экстазъ и восторгъ, или унылая
голодная напряженность безпартiйнаго. Сядемъ здѣсь … Какая тишина! …
Никого кругомъ. Развѣ только воробьи донесутъ на насъ … He безпокойтесь и
они съумѣютъ это сдѣлать … Вотъ эта то тишина и кажущееся безлюдье
и обманываютъ иностранныхъ посѣтителеи Ленинграда. Отсюда и идетъ легенда
о мертвомъ и пустомъ Петербургѣ … Ничего не пустой … Жизнь бьется и
клокочетъ въ немъ. He та, конечно, жизнь, къ какой мы съ вами привыкли … Жизнь
молодая … Людей страшно сказать: будущаго!
… Этихъ свѣтлыхъ строителей райской жизни, какая настанетъ, когда удастся
«пятилѣтка». Случалось вамъ бывать раннею весною въ запущенномъ
лѣсу? Оранжевые папоротники покрыли его. Все мертво подъ ними. Ихъ
переплетъ сломанныхъ вѣтвей и старыхъ почернѣвшихъ листьевъ,
кажется, все заглушилъ. И ничего здѣсь не будетъ больше во вѣки
вѣковъ. А зайдите черезъ нѣсколько дней. Какая буйная, густая
поросль новыхъ побѣговъ вытѣснила стариковъ. Все кругомъ зелено и
лишь кое гдѣ на самой землѣ вы можете найти черные остатки
прошлогоднихъ папоротниковъ. Смерти въ природѣ нѣтъ — есть
вѣчное торжество и побѣда жизни надъ смертью, «аще не умретъ — не
оживетъ». Жизнь торжествуетъ черезъ смерть и черезъ убiйство. Стараго рабочаго,
что съ тоскою въ сердцѣ ждалъ, какъ и чему его научитъ студентъ вы не найдете
на заводахъ. Новый никого не станетъ слушать. Онъ объѣлся «политграмотой»
и у него нѣтъ охоты слушать чьихъ бы то ни было рѣчей. Да и
зачѣмъ? Теперь самое разрѣшенное и есть самое запрещенное. Смачная ругань
противъ Бога и религiи, порнографiя ничѣмъ не прикрытая — вотъ что дала
ему власть … И … спортъ … Есть отъ чего съ ума спятить. Глаза на лобъ
лѣзутъ отъ всей этой жизни, гдѣ нѣтъ ни минуты покоя.
— Но онъ рабъ.
— Какъ сказать … Да, конечно, больше
чѣмъ рабъ. Ho онъ этого не понимаетъ. Ему некогда надъ этимъ задуматься.
Напротивъ онъ опьяненъ свободой. Это не парадоксъ … Непрерывка … Пятидневка …
Онъ строитель «пятилѣтки». Поэты въ его честь слагаютъ стихи, такiе
сумасшедшiе, что и понять ихъ нельзя. Ясно одно: — въ его честь. Онъ герой. Онъ хозяинъ. Лесть … Ахъ чего только не
сдѣлаетъ лесть. Да еще на такiя свѣжiя нетронутыя дрожжи …
Посмотрите, что дѣлается лѣтомъ на пригороднихъ дорогахъ, и не въ
праздникъ, праздниковъ нѣтъ, а благодаря пятидневкамъ и непрерывкамь
каждый день! Толпа, давка. Все стремится за городъ, какъ бывало мы,
Петербуржцы, говорили:—«ins grüne».
Парки и сады, дворцы и затѣи Петергофа,
«Детскаго» села, Стрѣльны, Оранiенбаума, Гатчины открыты для этой шумной
толпы. Все больше молодежь, ничего не знающая, ничего не видавшая. Она
врывается въ Императорскiя спальни, въ молельни, пялитъ глаза на семейныя, намоленныя
иконы и слушаетъ объясненiя. Ей говорятъ:
— «васъ никогда и близко сюда не пускали. Тутъ
стояли часовые, стража, васъ какъ собакъ шелудивыхъ гоняли отсюда — теперь это
ваше — народное, потому что народъ взялъ въ свои руки власть, потому что вы и
есть власть». «На этомъ столѣ такой то Императоръ подписалъ такiе то смертные
приговоры. Здѣсь пытали декабристовъ, здѣсь мучили Русскiй народъ».
И толпа вѣритъ, ибо что она знаетъ? Въ паркахъ на зеленыхъ газонахъ
развеселая «пьянка». На берегу залива полно голыхъ тѣлъ. Мужчины и
женщины купаются въ перемежку. «Долой стыдъ»! … To, что раньше блудливо подглядывали
въ щели женскихъ купалень — открыто теперь для общаго обозрѣнiя. Какiя
словечки, какiя соленыя шутки, какiе шлепки по голому тѣлу, какой
звѣриный хохотъ вы услышите здѣсь! Какiе поцѣлуи! … He хватаетъ
кустовъ укрывать то, что должно быть укрыто. Звѣриный бытъ, звѣриная
жизнь, но и звѣриная тоже радость … Уханье, визгъ, вопли, крики, пьяная
ругань — ничего святого, ничего чистаго — подлинный адъ … А нравится … Свобода!
… Повсюду устроены стадiоны, физ-культура процвѣтаетъ. Рабочихъ обучаютъ
гимнастикѣ, легкой атлетикѣ, молодежь увлечена фут-боломъ.
Устраиваютъ матчи и состязанiя. И, если это въ солнечный день, — подлинное
счастье у этихъ людей. Имь сказано — и они этому крѣпко повѣрили —
придетъ другая власть, она все это отъ нихъ отберетъ … Рабскiй трудъ … но и
какой скверный, съ постоянными прогулами, со штрафными листами и съ такою
небрежностью во всемъ, что иностранные инженеры только руками разводятъ. Наше
былое «кое какъ» возведено теперь въ кубъ что ли? … И тутъ же поощренiя,
красныя знамена, ордена имени Ленина — это не медали съ Царскимъ портретомъ —
это дается всѣмъ, коллективу, это празднуется и это цѣнится …
Пишутъ въ газетахъ, восхваляютъ въ стихахъ. Мы когда то смѣялись надъ Третьяковскимъ
— «придворныи пiита». Теперь Демьяны Бѣдные, Маяковскiе, Есенины, и
прочая полуграмотная дрянь льстятъ, какъ никакой придворный льстець и льстить
то не посмѣлъ бы — народъ все сожретъ!.. Такъ чѣмъ же, какими посулами
вы свернете рабочаго отъ такой жизни? Европейская, а болѣе того,
христiанская мораль съ ея воздержанiемъ и постами покажется ему самыми тяжкими
цѣпями. Совѣсть? … Да онъ выросъ безъ совѣсти. Да, бываетъ …
Находитъ иногда раздумье, сомнѣнiе, больше на дѣвушекъ … И
стрѣляются и топятся и вѣшаются отъ тоски лютой. Ихъ не
жалѣютъ. Самоубiйство не въ фаворѣ. Оно показываетъ слабость духа,
а новый человѣкъ долженъ быть силенъ. Самоубiйцъ презираютъ. Жизнь
молодежи несется какою то бѣшеною сарабандой. Только поспѣвай.
Всегда на людяхъ. Все общественное, вездѣ толпа. Въ столовыхъ, въ
уборныхъ, всюду стадомъ, всюду вмѣстѣ. Никогда наединѣ. И
вездѣ доносчики. На заводѣ, на службѣ, въ комиссарiатѣ,
въ очередяхъ у лавки, на партiйномъ собранiи, въ народномъ университетѣ,
въ танцулькѣ, на спортивной площадкѣ, въ киношкѣ, въ театрѣ,
въ бардакѣ … Вездѣ толпа … Подлинно пиръ Валтасара!
— Какой тамъ пиръ, — вставилъ Нордековъ. — Голодные
люди.
— Они къ этому привыкли. Врачи ихъ
убѣдили, что ѣсть много вредно. И нашимъ, какъ китайцамъ — щепотка
риса и довольно. Голодный паекъ. Они вѣдь съ дѣтства ничего другого
и не видали, такъ что имъ! Это мы обѣдъ менѣе чѣмъ изъ трехъ
блюдъ и въ обѣдь не считаемъ. Имъ съ утра и до вечера твердятъ о лютомъ голодѣ
заграницей.
— Ну ужъ! …
— Подите вы, такъ увѣрили. Всѣ
думаютъ, что провизію и заграницей получаютъ по квиткамъ, вездѣ пухнутъ
отъ голода.
— Полноте, какъ можно этому повѣрить?
— Я старый уже человѣкъ и въ свое время
живавшiй заграницей, а, порою, и я колеблюсь. Всѣ уши намъ этимъ
прожужжали … Нѣтъ, бросьте, рабочаго вы никакъ не свернете … «Наша
власть» — затвердилъ это и знать ничего не хочетъ. Вѣритъ въ
пятилѣтку и въ грядущiй рай. Оыъ вѣритъ въ то, что Совѣты
покорятъ весь мiръ, что вездѣ будетъ третiй интернацiоналъ. Это религiя и
какая сильная! … Онъ готовъ и на войну за это … Однако, знаете что,
перемѣстимтесь опять, a то и правда воробьи на насъ донесутъ … Вы
Петроградъ хорошо знаете?
— Прекрасно … Я въ немъ родился и выросъ. Да и
служилъ почти всегда въ немъ.
— Ну многаго теперь и не узнаете. Одно
разрушено, другое настроено. Одни прекрасные памятники сняты, другiе омерзительные
наставлены. Стало больше садовъ. Цвѣтниками пустыри позасадили,
дѣтскихъ площадокъ понадѣлали. Въ носъ, знаете, шибаетъ — вотъ она,
смотрите, какая у насъ культура … Любимое слово, между прочимъ, у нашихъ
дикарей. Водопроводы не дѣйствуютъ, на дворъ за нуждою бѣгаютъ,
какъ при царѣ Горохѣ, электричество то и дѣло пошаливаетъ, а
левкоевъ и флоксовъ ка пустопорожнихъ мѣстахъ понатыкали и рады, какъ
дѣти … Какъ дикари … Нѣтъ … какъ сумасшедшiе. Итакъ черезъ полчаса
на «полѣ жертвъ революцiи». Тоже названьице! … У могилы борцовъ
революцiи, гдѣ пока тихо обваливается каменная краденая ограда, созданная
по проекту архитектора Руднева и гдѣ закопаны, не хочу сказать погребены,
— Володарскiй, Урицкiй, Нахимсонъ, Сиверсъ, Толмачевъ, финскiе коммунисты и
прочiе красавцы, да то быдло, которое создавало «февраль» и «октябрь» … Тамъ
меня и ищите … Съ товарищескимъ привѣтомъ! … Пока! …
На этотъ разъ незнакомецъ пожалъ и даже
потрясъ руку Нордекову и тою же нахоженною развалистою походкою пошелъ черезъ
садъ къ Невскому проспекту.
XV.
Нордековъ не узналъ Марсова поля. Оно слилось
съ Лѣтнимъ и Михайловскимъ садами и стало громаднымъ паркомъ, полнымъ
лужаекъ, кустовъ и цвѣточныхъ клумбъ. Здѣсь шумъ города былъ не
такъ слышенъ и воробьи верещащими стаями переносились съ мѣста на
мѣсто. Воздухъ былъ нѣженъ и прохладенъ. Съ Невы несло водянымъ запахомъ.
На травѣ тутъ и тамъ лежали отдыхающiя парочки.
Со стороны Лѣтняго сада доносились
мѣрные крики гимнастическихъ командъ. Нордековъ сейчасъ же отыскалъ
памятникъ. Его закладка была еще при немъ. Это Временное Правительство
канонизировало бунтовщиковъ и погребло ихъ въ красныхъ гробахъ на Марсовомъ
полѣ.
Незнакомецъ ходилъ, осматривая рѣшетку.
— А, наконецъ, вы, — онъ увлекъ Нордекова къ Лѣтнему
саду.
— Знаете, что то много тутъ всякой публики шатается.
Пойдемте къ Фонтанкѣ. Тамъ всегда какъ то меньше народа бываетъ.
— Что это тамъ за крики? — спросилъ Нордековъ.
— Физ-культурники упражняются. Вы покидали Петербургъ,
когда спортомъ занимались аристократическiя 6арышни, да немного офицеры …
Теперь весь «молоднякъ» зараженъ спортомъ. Въ каждомъ городскомъ районѣ
свои кружки физ-культуры при предпрiятiяхъ и учрежденiяхъ. Казалось бы что
общаго между спортомъ и Акушерскимъ техникумомъ, или Госметографiей, или
Глухонѣмыми, а вотъ у каждаго есть свой кружокъ спорта. Каждая фабрика, школа,
большой магазинъ, типографiя заняты спортомъ. Какихъ только клубовъ у насъ
нѣтъ! Авто-мото-вело клубъ, Горно лыжный клубъ на Парголовскихъ высотахъ,
четыре гребныхъ клуба, два парусныхъ, теннисъ, шахматы — и все для всѣхъ,
конечно, для партiйцевъ прежде всего. Видите, какiя достиженiя! Есть отъ чего
мозгамъ на бекрень свернуться … У насъ и говорятъ: — «безъ Бога, безъ Царя и
безъ Россiи куда веселѣе живется» … Такъ вотъ какъ … Ну что же
продолжимъ. Я имѣю приказъ информировать васъ о всемъ … Мнѣ сказали,
что у васъ, у эмиграцiи, большiя надежды на красную армiю. Вы какъ то не можете
повѣрить, что красная армiя не Русская армiя, что она не наслѣдница
славы и доблести Русской Императорской армiи? … He такъ ли? …
— Да, это такъ. Мы, старые Русскiе офицеры,
знающiе и любящiе Русскую армiю и Русскаго солдата, не можемъ понять, какъ это
такъ, чтобы Русскiе люди не желали имѣть прежней побѣдоносной
Христолюбивой армiи.
— Такъ такъ … Когда то и я отбывалъ воинскую
повинность и былъ вотъ въ этихъ самыхъ Павловскихъ казармахъ, что называется —
вольноперомъ. Видалъ я тогдашнихъ новобранцевъ. Новобранецъ Императорской армiи
приходилъ изъ богобоязненной семьи. Онъ боялся военной службы. Приступалъ онъ
къ ней съ молитвой. Сколько, бывало, свѣчей наставятъ новобранцы передъ
ротнымъ образомъ, сколько поклоновъ отобьютъ. Новобранецъ не терялъ связи съ
семьею и домомъ. Письма изъ дома — радость. Побывка домой — мечта. Въ
казармѣ его встрѣчалъ окрикъ. Онъ сразу сжимался отъ внѣшней дисциплины.
Отданiе чести, отвѣты на привѣтствiе, чистота тѣла и одежды …
ну тамъ еще барабанъ и учебный шагъ. Въ старой армiи умѣли муштровать и
дѣлать солдата. И вездѣ грезится кулакъ … He сладкая, знаете, греза.
— Въ нашей армiи не били.
— Офицеры, да, можетъ быть …
Вѣрнѣе — переставали бить. Но унтеръ-офицеры? … Во всякомъ
случаѣ грозили побить. «Я тебя подъ арестомъ сгною» … «Я тебѣ морду
набью, будешь помнить» … Вѣдь такъ? …
Нордековъ промолчалъ.
— Да не въ этомъ дѣло. Въ старой нашей
армiи, при всемъ казарменномъ утѣсненiи и угнетенiи была — свобода … Были
дни и часы, когда въ казармы безпрепятственно допускались посѣтители. Они
садились на койки и что говорили они, что дѣлали, что приносили, никому
до этого не было дѣла. Въ нашей старой казармѣ была — деликатность. Солдаты ходили въ отпускъ.
Больше въ Апраксинъ дворъ за покупками, но за ними никто не слѣдовалъ по
пятамъ и никто не слѣдилъ … Была, значитъ, возможность пропаганды въ войскахъ,
и пропаганда шла. Теперь совсѣмъ другое. Красноармеецъ приходитъ изъ
разрушенной семьи, съ поколебленнымъ родительскимъ авторитетомъ. Въ Бога онь не
вѣритъ. Онъ еще въ деревнѣ побывалъ и въ безбожникахъ и въ комсомолѣ,
ему на все плевать. Онъ никого и ничего не боится. Для него авторитетовъ
нѣтъ. Голодный, оборванный, босой, шапка на затылокъ, въ глазахъ заячiй
страхъ и наглость безъ мѣры — вотъ современный красный новобранецъ. Онъ
повидалъ Все-воен-обучъ еще въ деревнѣ и военной службы онъ не боится.
Его одѣнутъ, не Богъ вѣсть какъ, много хуже, чѣмъ
одѣвали въ Императорской армiи, но много лучше, чѣмъ одѣта
толпа. Да вѣдь нашего то, стараго, онъ ничего не видалъ. У него сравненiе
только съ окружающимъ и это сравненiе ему говоритъ, что онъ прекрасно
одѣтъ и ѣстъ такъ, какъ рядовому обывателю и не снится. Онъ
зараженъ стремленiемъ воевать. «Даешь Варшаву»! … «Даешь Парижъ»! Отъ Варшавы
то они драпали въ два счета, да вѣдь этого имъ не говоряiтъ. Въ нихъ
насаждаютъ красноармейскiй шовинизмъ. И этотъ шовинизмъ и вы въ своихъ эмигрантскихъ
газетахъ поддерживаете. Красная армiя первая въ мiрѣ! …
Незнакомецъ сплюнулъ на сторону и послѣ
короткаго молчанiя какимъ то рывкомъ кинулъ:
— Ни черта она не стоитъ ихъ красная армiя.
Дер(ь)мо, какъ и вся совѣтская страна. Ложь и обманъ. Пусканiе пыли въ
глаза и юнкерское фанфаронство.
Онъ окончательно замолчалъ, и Нордекову пришлось
напомнить ему, что онъ говорилъ о красной армiи.
— Да такъ вотъ … Учоба не трудная …
Внѣшность на второмъ планѣ. За всякое старанiе — поощренiе, за
всякую провинность наказанiе. Онъ наружно совершенно свободенъ. Внѣ службы,
гуляй гдѣ хочешь — запрета никуда нѣтъ. Но онъ никогда ни на одну
минуту не бываетъ одинъ. Въ танцульку гурьбой, въ кинематографъ толпой, въ
публичный домъ и то всѣ вмѣстѣ. Не только слова, но самыя его
мысли извѣстны товарищамъ. Вездѣ есть невидимая коммунистическая
ячейка безъ лести преданныхъ совѣтамъ людей, готовыхъ доносить. Какъ
поведете вы при такихъ условiяхъ пропаганду? … Черезъ само начальство? Но,
начальство изъ бывшихъ Царскихъ офицеровъ спитъ въ землѣ сырой.
Разстрѣляно, выгнано со службы, лишено
всѣхъ правъ и сгноено голодомъ и холодомъ. Остались тѣ, кто повѣрилъ
въ цѣлесообразность такого строя, кто заразился сумасшедшимъ пафосомъ
большевизма и служитъ на совѣсть, да еще тѣ, кто навѣки такъ
запуганъ, что и головы поднять не смѣетъ. Крѣпость неприступная
наша красная армiя. Подойдите заговорить къ одному — васъ обступитъ пять,
десять товарищей, положатъ руки на плечи, приблизятъ уши, уставятъ на васъ не
былые телячьи глаза старыхъ новобранцевъ, а умные, наглые, хулигански
смѣлые глаза … Что у нихъ на душѣ? Кто свой, кто коммунистъ? …
Мнѣ пришлось въ прошломъ году быть по служебнымъ дѣламъ на
Румынской границѣ. Надо быть такому грѣху, что у рvмынъ, по ту
сторону Днѣстра, стоялъ на охранѣ гусарскiй полкъ Императора
Николая II. У нихъ вензеля на погонахъ. Надо было видѣть, какая ярость
охватывала нашихъ красныхъ пограничниковъ, когда они увидятъ этихъ солдатъ..
Злобный фоксъ на кошку такъ свирѣпѣетъ, какъ свирѣпѣли
они. Кулаками машутъ, ревутъ по звѣриному, кроютъ такими словами, что
удивляешься, какъ воздухъ выноситъ такую ругань. Орутъ: — «погодите, дайте намъ
только до васъ дорваться, въ клочья васъ порвемъ … Мы вамъ эти вензеля каленымъ
желѣзомъ на причинномъ мѣстѣ выжжемъ» … За что? … Откуда такая
ненависть? … Молодые вѣдь все парни, изъ деревни. Когда убили Государя
имъ было шесть, семь лѣтъ … Что могли они знать о немъ? … Да все оттуда
же — изъ этого сумасшедшаго дома, гдѣ непрерывно, слышите, непрерывно, въ школѣ, въ
клубѣ, въ избѣ читальнѣ, въ казармѣ, на урокѣ
полит-грамоты, въ постели съ совѣтской дѣвкой это внушаютъ. Старыя
книги отобраны, сожжены или хранятся за семью замками для посвященныхъ … Какъ?
… Съ чѣмъ? … вы придете въ красноармейскую казарму … Нѣтъ …
Невозможное дѣло …
Были попытки и всѣ плачевно кончались.
Они шли медленно по тѣнистой
аллеѣ. Влѣво были темныя воды Фонтанки. Нордековъ забывалъ свой костюмъ,
старался не глядѣть на незнакомца, не слушать и не вѣрить его
безнадежнымъ словамъ. Картины прошлаго вставали передъ нимъ. Ужели все это
навсегда ушло? … Ужели это никогда не вернется? …
Низкiе двухъэтажные дома училища
правовѣдѣнiя и Педагогическаго музея тянулись на противоположной
сторонѣ … Тамъ, вдоль набережной, стояли ломовыя койки, запряженныя
крупными битюгами. Слышалось звонкое щелканье бросаемыхъ швырковыхъ дровъ. Такъ
было при Петрѣ, при Екатеринѣ, при Александрѣ I, такъ было въ
дни его дѣтства, такъ есть и теперь … Почему же такъ страшенъ разсказъ
незнакомца …
— Прежде, — тихо, понизивъ голосъ почти до шопота,
продолжалъ незнакомецъ, — опорой Русскаго быта была Русская женщина. Она
строила семью. Няня … Довѣренная горничная-наперсница — помните Лиза у
Софьи Фамусовой … Ну тамъ еще и усадьба полагалась, и въ этой усадьбѣ этакая,
знаете, Тургеневская дѣвушка, кисейное созданiе, прелестное душою и
тѣломъ … Лиза Калитина тамъ какая нибудь … Барышня … Институтка … Наивное
существо, думающее, что французскiя булки растутъ на деревьяхъ, а дѣтей
находятъ подъ капустнымъ листомъ … Гдѣ же все это? … Все миновало, какъ
сладкiй сонъ. Старыхъ нянь угробили. А какiя и сами померли или съ вами въ
эмиграцiю уѣхали — «господъ» не покинули. А какiя остались тоже «свои
права взяли» не хуже другихъ. Горничныхъ нѣтъ — есть «уборщицы» … О
Тургеневской дѣвушкѣ говорить не приходится, ибо помѣщичьи
усадьбы сожжены еще при первой Думѣ Герценштейнами и ему подобными
иллюминаторами Россiйскаго горизонта. Вѣдь еще отъ этой самой первой
Думы, вотъ откуда уже большевицкимъ дерьмомъ потянуло … Нѣтъ и
институтовъ, да нѣтъ и барышень … Современная совѣтская
дѣвушка прежде всего не дѣвушка … Все испытать, все знать ей надо
со школьной скамьи. Чтобы жить … просто, грубо жить, ѣсть, пить, ну и
одѣться какъ нибудь — она должна работать, какъ волъ съ утра и до ночи.
Секретарши, пишмашки, стенотипистки, продавщицы, мильтонши, кондукторши, ген-штабистки,
куда только не пролѣзла она. Чтобы въ нашемъ сумасшедшемъ домѣ
женщинѣ чего нибудь добиться, чтобы кобели въ штанахъ не сдѣлали ее
рабыней, ей надо и крѣпкiе кулаки имѣть и здоровую глотку. Надо на
зубокъ знать «Ленинизмъ» и имъ бить насильниковъ Чубаровцевъ … Природа знаетъ,
что надо дѣлать. Лучшiе физ-культурницы — женщины. Безсознательно, можетъ
быть, иная и мечтаетъ о семьѣ, сознаетъ ненормальность и скотство своей
жизни, да кому она про это скажетъ? … А вѣдь во времена борьбы съ проклятымъ
«царизмомъ» это женщина шла во главѣ «освободительнаго» движенiя. Софiи
Перовскiя, Вѣры Засуличъ не послѣднюю роль въ немъ играли. И въ
каждомъ такомъ комплотѣ уже непремѣнно была какая нибудь Рахиль или
Геся …
Они дошли до края и повернули назадъ. И точно
этотъ поворотъ перевернулъ мысли незнакомца.
— Рахили, Геси, Сони, — съ надрывнымъ вздохомъ
сказалъ незнакомецъ, — вотъ кто посылалъ нашу шаткую молодежь на борьбу. Жиды!
… О, какъ они способны на все это! … Точно спецiально созданы для бунтовъ! …
Если бы да они были съ нами!? … Теперь они наверху. Они вездѣ на
командныхъ высотахъ. Чего еще имъ надо? Зачѣмъ имъ свергать
правительство, столь къ нимъ благосклонное? Вы поняли меня теперь … Безнадежно! Это же гибель Россiи! Это
гибель христiанской культуры во всемъ мiрѣ! Когда эта армiя сумасшедшихъ,
бѣсноватыхъ, бѣсами одержимыхъ, тупыхъ, скотски сладострастныхъ,
жадныхъ, небрезгливыхъ, жестокихъ, глупыхъ, неприхотливыхъ, закаленныхъ въ
борьбѣ за жизнь, не боящихся ни холода, ни голода, снабженныхъ самыми
дьявольскими газами, аэропланами, Цеппелинами, этимъ своимъ Осо-авiо-химомъ,
воспитанные во Все-воен-обучѣ бросится на Европу жечь и грабить, убивать
и насиловать — никакое культурное войско передъ ними не устоитъ.
Незнакомецъ остановился и поднялъ голову. До
этого онъ не смотрѣлъ въ лицо Нордекову. Теперь, посмотрѣвъ, онъ
испугался. Такъ было оно блѣдно, такая нечеловѣческая тоска и боль
была въ его глазахъ, что незнакомцу стало страшно. Онъ зналъ — видалъ это выраженiе,
за этимъ — самоубiйство. Онъ взялъ своею жесткою, въ мозоляхъ и цапкахъ рукою
руку полковника и, крѣпко пожимая ее, сказалъ:
— Ну, полноте … He вѣрьте мнѣ … Я
ошибаюсь … Я обобщаю. Сгущаю краски … Есть красные командиры, которые со своими
женами убираютъ церкви и поютъ во время богослуженiя. Есть подвижники. Это не
Содомъ, гдѣ не нашлось ни одного праведника. Тутъ ихъ многiе миллiоны. Вы
и представить не можете, какiе святые, чистые люди, подлинные христiане живутъ
въ Совѣтскомъ Союзѣ, какiе пламенные патрiоты … Они неслышно и
невидимо подготовляютъ спасенiе Россiи. Какiя есть матери. Потихоньку онѣ
учатъ дѣтей вѣрѣ въ Бога и любви къ старой нашей Россiи … Вы
знаете, я иногда думаю, не безъ гордости думаю, что лучшiе то люди не съ вами
ушли въ эмиграцiю, на хорошее и спокойное житiе, а остались здѣсь и
несутъ подвигъ спасенiя Россiи, работая для нея въ сумасшедшемъ домѣ. A
посмотрите въ какихъ ужасающихъ условiяхъ наши профессора ведутъ и двигаютъ
Русскую науку! А наука — это путь, и вѣрный, къ спасенiю … Сколько ихъ
погибло! … И притомъ я не говорилъ про деревню. Я ее не знаю … Думаю, что тамъ
все-таки легче работать. Нѣтъ … Нѣтъ … He теряйте духа … Я говорилъ
вамъ, чтобы вы знали, какъ трудно, но трудно — не значитъ, что невозможно …
Онъ еще разъ пожалъ и потрясъ руку Нордекова.
— Простите, намъ разстаться надо. Часто
встрѣчаться боюсь, а видѣться какъ то надо. Черезъ два дня, въ
десять утра въ саду Урицкаго, у большого озера, противъ дворца. Идетъ? …
— Это … въ Таврическомъ саду? …
— Ну да, конечно. Теперь вездѣ новые
герои и они спѣшатъ, спѣшатъ и спѣшатъ и памятники себѣ
ставить, и города, веси и улицы своими именами поганить, ибо знаютъ канальи,
что недолговѣчна ихъ слава и проклянетъ ихъ потомство … Коммунизмъ умретъ
— Россiя не умретъ. Пока! …
Незнакомецъ кивнулъ головою и они разстались.
XVI.
Уже поздно вечеромъ и что называется «безъ
заднихъ ногъ» вернулся Нордековъ въ ригу за деревней Коломягами, гдѣ былъ
ихъ «домъ» и гдѣ онъ могъ чувствовать себя въ полной безопасности.
Парчевскiй былъ уже тамъ, а Голубовъ, Дубровниковъ и Карнеевъ заканчивали
установку радiо аппарата и регулировали безшумный моторъ. Ужинъ былъ готовъ.
Нордековъ ѣлъ молча. Онъ снова былъ во
власти того самаго безволiя и отчаянiя, какое овладѣло имъ послѣ
лекцiи Стасскаго и довело его до покушенiя на самоубiйство. Но тогда это была
только эмигрантская лекцiя и ей можно было вѣрить или не вѣрить,
теперь же это былъ разговоръ съ человѣкомъ, тринадцать лѣтъ жившимъ
въ совѣтской республикѣ и хорошо изучившимъ всѣ возможности.
И онъ сказалъ: — «безнадежно» … Надо кончать съ собою. Все равно ничего не
выйдетъ. Только теперь это не будутъ волны чужой Сены, а можно будетъ кончить
съ собою со славой, кончить подвигомъ убiйства какого нибудь изъ
совѣтскихъ гадовъ.
Парчевскiй, какъ всегда былъ веселъ и полонъ
бодрости.
— Ну, какъ твоя развѣдка? … Нашелъ свою
явку? … Или неудача? … Что ты такой, какъ въ воду опущенный … Разсказывай. Или
усталъ? … Я самъ братъ, ногъ подъ собою не чувствую, хотя и рискнулъ и въ
трамваяхъ ѣздить и сюда по желѣзной дорогѣ добрался.
— Усталъ … Ахъ, если бы только усталъ! Да я усталъ
тѣломъ, но въ тысячу разъ больше я усталъ душою. Все то, что я услышалъ
сегодня въ первый день моего пребыванiя на родинѣ такъ … безнадежно.
И Нордековъ слово за словомъ разсказалъ Парчевскому
все то, что передалъ ему незнакомецъ.
— Ты понимаешь, если тѣ, кто разрушали
Императорскую Россiю работали безъ малаго двѣсти лѣтъ, если считать
отъ Бакунина и первыхъ декабристовъ — намъ предстоитъ работать четыреста
лѣтъ … Ты понимаешь это? … Я не могу … не могу больше, Парчевскiй! … Прости
меня, но я ѣхалъ сюда, чтобы увидѣть и добиться настоящей Россiи.
— Ты ее и увидишь.
— Когда? … Еще четыреста лѣтъ! … Быть
пiонерами въ этой безконечной работѣ, словъ нѣтъ — это очень почетно,
но какъ это грустно и тяжело. He знаю, хватитъ ли у меня силъ на это …
— Четыреста лѣтъ … Зачѣмъ? … Какая
глупость! … Тѣ, кто разрушалъ Россiю, разрушали организмъ, которому было
тысячу лѣтъ, государство съ устоявшимся бытомъ, съ твердыми устоями … Они
не разрушили сго. Это — все-таки Россiя. To, что ты видѣлъ была пошлая
намалеванная варваромъ скверными, жидкими красками картина на прочной старинной
фрескѣ большого мастера. Придетъ реставраторъ и смоетъ дикую мазню невѣжды
и проявить мiру всю красоту настоящей фрески.
— Проявитъ мiру всю красоту настоящей фрески,
— повторилъ за Парчевскимъ Нордековъ. — Но, когда это все будетъ? … Черезъ
четыреста лѣтъ! …
— Почти двѣсти лѣтъ понадобилось,
чтобы до основачiя потрясти тысячелѣтнее строенiе Россiи … Большевизму
минуло всего тринадцать лѣтъ. Правда, корни у него цѣпкiе, но они
не проникли въ самую толщу народной жизни. Они разрушили тѣло, но не
могли и никогда не смогутъ разрушить Русскую Душу. Все то, что ты видѣлъ
и что тебѣ говорилъ незнакомецъ … Незнакомецъ … Да уже не провокаторъ ли
то былъ? Можеть быть просто запуганный интеллигентъ, самъ ставшiй сек-сотомъ?
Соцiалисты и народовольцы работали, допустимъ, около двухъсотъ лѣтъ. Такъ
вѣдь, какъ имъ приходилось работать! Имъ надо было самимъ ходить въ
народъ, свои идеи распространять потаенно въ маленькихъ кружкахъ. Прокламацiи
они печатали на гектографѣ и рѣдко когда имъ удавалось
литографировать ихъ, они бросали самодѣльныя динамитныя бомбы … Кустарная
работа самоучекъ! Съ нами идетъ удивительиая техника второй четверти двадцатаго
вѣка, такъ тщательно собранная и снаряженная капитаномъ Немо. У нась
кинематографъ, телевизоръ и громкоговорители, у насъ радiо и наше слово и
образы, нами рисуемые распространяются просто таки чудеснымъ образомъ по всей
Россiи. Съ нами газы разныхъ степеней и качествъ, съ нами паника, которую мы нагонимъ
на толпу … Тѣхъ разгоняли нагайками … Къ намъ никто не посмѣетъ
приступиться. И потому имъ понадобились сотни лѣтъ … Намъ? …
Нѣсколько дней.
— Завидую тебѣ, Парчевскiй …
Неисправимый оптимистъ!
— Это не оптимизмъ. Это знанiе и офицерская
бодрость, заповѣданная намъ Суворовымъ.
— Оставь … Я все это слышалъ еще въ Петроградѣ
… Большевики — это на двѣ недѣли, не больше. Я это слышалъ и въ
Югославiи, тамъ все ждали и вѣрили въ какую то организацiю … Я слышалъ
это и въ Парижѣ, гдѣ насъ призывали къ объединенiю и
вѣрѣ въ вождей. А вожди не вели, а стояли на мѣстѣ. Я
знаю это хорошо: — «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающiй обманъ» …
И мы все себя возвышали и возвышали и какъ пришлось падать, охъ какъ больно мы
расшиблись! Ну скажи, твои сегодняшнiя впечатлѣнiя …
Гдѣ ты былъ?
— Я былъ у Ястребова.
— А?.. Ну что же онъ? … Благополучно спустился?
— вяло и безразлично спросилъ Нордековъ.
— Спустился, какъ и мы совершенно благополучно
за Гатчиной, на прогалинѣ въ громадномъ лѣсу и работаетъ.
— Работаетъ? … Что же онъ дѣлаетъ? …
— Онъ готовитъ достойный отвѣтъ твоему
незнакомцу. Онъ не отпустилъ своего аэроплана. Онъ его надежно укрылъ въ лѣсу.
Завтра надъ всѣмъ Петроградомъ будутъ разбросаны листовки и призывы Братства
Русской I1равды и завтра же … Впрочемъ … He буду тебѣ говорить ничего. Ты
самъ скоро увидишь, какъ высока наша техника. Намъ есть чѣмъ гордиться и
мы не ошиблись, когда пошли къ капитану Немо.
— Господинъ полковникъ, — доложилъ Нордекову
Голубовъ, — аппаратъ готовъ, можете говорить съ Россiйскимъ островомъ.
Нордековъ, полураздѣтый укладывался въ
свой гуттаперчевый мѣшокъ. Онъ завернулся въ его полы, положилъ голову на
надувную подушку.
— Милый, — томнымъ, разслабленнымъ голосомъ обратился
онъ къ Парчевскому. — Доложи за меня все ты. Я самъ не знаю, что нашло на меня.
Я такъ ослабѣлъ. Голова не работаетъ, двухъ словъ не свяжу … — Онъ протяжно
зѣвнулъ. — А какъ это мнѣ напоминаетъ наши былые маневры. Такъ и
кажется, что вотъ вотъ запищитъ телефонъ и услышу донесенiе отъ заставъ, что
Конно-гренадеры наступаютъ на наши посты и полевые караулы … Такъ, пожалуйста,
милый, ты все слышалъ. Доложи за меня.
— Ладно … Ты вспомнилъ о телефонѣ,
который будетъ тебѣ передавать донесенiе заставъ, расположенныхъ у Пелгола,
Пеккоземяки со склоновъ Кирхгофа на твою штабъ квартиру у Горской … Такъ! я
буду говорить изъ подъ Петербурга на таинственный Россiйскiй островъ,
находящiйся въ глухомъ углу Атлантическаго океана подъ самымъ экваторомъ. He
говоритъ ли это тебѣ ,какъ далеко шагнула техника за эти какiе нибудь
двадцать лѣтъ? Смѣю тебя увѣрить, что послѣзавтра мы
покажемъ здѣсь, въ этомъ сумасшедшемъ домѣ такiя картины, что и самые
буйные сумасшедшiе призадумаются.
— Далъ бы Богъ, — томно протянулъ Нордековъ. —
Я попробую уснуть. Очень уже тяжко у меня на сердцѣ. Жутко и страшно …
Тысячеголовая гидра навалилась на меня. И вся тысяча ея головъ — сумасшедшая.
Нордековъ накрылъ голову краями одѣяла и
сквозь него слышалъ, какъ Парчевскiй бодро и смѣло говорилъ.
— Алло … Алло … Говоритъ Парчевскiй изъ подъ
Петербурга, отъ деревни Коломягъ. Вчера въ двѣнадцатомъ часу ночи спустились
благополучно. База устроена … Сегодня съ разсвѣтомъ Нордековъ и я ходили
въ Петербургъ …
Дальше Нордековъ не слышалъ. Сонъ мягко навалился
на него, заложилъ уши, и ему снился какой то громадный аппаратъ, на которомъ
онъ долженъ былъ летѣть въ Персiю. Въ этомъ аппаратѣ были большiя
спальни и ванныя комнаты и въ одной изъ ванныхъ комнатъ капитанъ Немо
заставлялъ его вертѣть въ формѣ мороженое. Глупый былъ сонъ, но онъ
разсѣивалъ и укрѣплялъ Нордекова.
XVII.
Какъ это вышло потомъ никто толкомъ не могъ
объяснить, но въ этотъ день, при посредствѣ ассоцiацiи Революцiонной кинематографiи
по театрамъ, находящимся въ вѣдѣиiи Ленинградгубоно, по многимъ частнымъ
театрамъ и даже совсѣмъ маленькимъ кинематографамъ при Домпросвѣтахъ,
рабочихъ клубахъ, государственныхъ предпрiятiяхъ и учрежденiяхъ была разослана
для проэкцiи фильма и все, что къ ней полагается — то есть афиши, плакаты и
программы.
Такимъ образомъ было то, чего раньше не
бывало: — въ «Астартѣ», «Ампирѣ», «Великанѣ»,
«Гигантѣ», «Колизеѣ», «Свѣтлой Лентѣ», «Теремкѣ»,
«Демонѣ, «Домѣ красной армiи и флота», «Лѣшемъ»,
«Рабкорѣ», и еще кое гдѣ шла одна и таже фильма — «Приключенiя
ударника въ заграничной поѣздкѣ на пароходѣ «Украина». Ни
заглавiемъ, ни внѣшнимъ видомъ, ни афишами и анонсами она никакихъ
подозрѣнiй не внушала и была всюду принята съ полнымъ довѣрiемъ. На
ней были клейма «Гос-кино». Она была «тонъ фильмой».
Нордековъ и Парчевскiй не безъ волненiя
входили бъ громадный кинематографъ «Солейль» на проспектѣ 25-го октября
противъ Гостинаго Двора.
Все тутъ было совершенно такое же, какъ въ
кинематографахъ Парижа, Берлина и другихъ большихъ городовъ. У входа
горѣли яркiя электрическiя вывѣски. Толпа была на улицѣ.
Милицейскiй стоялъ для порядка. У кассы былъ хвостъ, въ дверяхъ давка.
Громадный залъ, какъ вездѣ въ кинематографахъ былъ пестро раскрашенъ въ
какомъ то дурящемъ голову кубистическомъ стилѣ. Только у публики костюмы
были много проще, чѣмъ въ Европейскихъ городахъ. Толстовки,
красноармейскiя гимнастерки, пиджаки на рубашкахъ безъ воротниковъ и галстуховъ,
просто рубашки, простоволосыя, стриженыя дѣвицы съ голыми ногами въ
башмакахъ, все это было, какъ и на улицѣ и знаменовало и бѣдность и
подчеркнутое опрощенiе. И пахло не такъ чтобы хорошо: — давно не мытымъ
тѣломъ, потомъ, сквернымъ табакомъ, виннымъ перегаромъ … Иногда проходила
струя духовъ и душистой пудры и еще сильнѣе подчеркивала общiй дурной
запахъ, шедшiй отъ Ленинградской толпы. Больше было развязности въ толпѣ,
чѣмъ это привыкъ видѣть въ кинематографахъ такого рода Нордековъ.
«Зощенкой пахнетъ», — шепнулъ ему на ухо Парчевскiй, котораго не покидало его
хорошее настроенiе духа. Но ничего страшнаго или особеннаго не было въ этой
толпѣ. Впереди Нордекова дѣвицы угощались «ирисками», отъ нихъ
пахло ванилью и Нордековъ неволько вспомнилъ лекцiи полковника Субботина на
Россiйскомъ островѣ.
И какъ вездѣ, когда наступила темнота,
на экранѣ появились обычные заголовки названiй фирмы, авторовъ, артистовъ.
«Госкино» показывало снимки, снятые заграницей.
Жизнь буржуазiи въ капиталистическихъ государствахъ, лишенныхъ большевицкаго разума
и свободы.
Громкоговоритель давалъ поясненiя, иногда самъ
герой фильмы вставлялъ свои рѣчи и разсказывалъ о своихъ впечатлѣнiяхъ
въ городахъ Западно-европейскихъ государствъ.
«Ударникъ» рабочiй Мартынъ Галеркинъ, — онъ
игралъ подъ Шарло Чаплина, — былъ оттертъ Лондонскою толпою отъ своихъ
товарищей и заблудился въ Лондонѣ.
Къ великому удивленiю Нордековъ скоро призналъ
въ ударникѣ никого другого, какъ Фирса Агафошкина.
Мартынъ Галеркинъ пояснилъ, что съ нимъ происходило:
— Зашелъ, граждане, въ банкъ. Даю
совѣтскiе червоцы, чтобы размѣнять, значитъ, на ихнiе фунты, надо
мною смѣются … He принимаютъ въ ихнемъ буржуазномъ банкѣ нашихъ
трудовыхъ рабочихъ сигнацiй … Жрать охота, кругомъ рестораны, пожалуй что и
почище нашихъ столовокъ, тутъ тебѣ магазины и въ нихъ — окорока, колбасы,
гуси, куры, утки, откуда только все это берется? He иначе, какъ нашъ рабочiй
союзъ имъ это все посылаетъ черезъ Внѣш-торгъ. Гляжу — сыръ … Ну,
граждане, и до чего хитра эта самая буржуазiя на обманы. Сыръ въ колесо,
разрѣзанъ пополамъ и вѣрите ли товарищи, весь онъ чисто въ дыркахъ
и ѣсть въ немъ просто нечего — одна дыра. Языка ихняго я не знаю, « ни бе,
ни ме», хоть и въ школѣ второй ступени обучался. Лѣзу къ нимъ: —
«товарищъ», — говорю, — «укажите мнѣ дорогу на нашу краснофлотскую
«Украину». Потому, какъ я ударникъ Мартынъ Галеркинъ отъ своихъ отбился, не
пропадать же мнѣ съ вами. Еще и на кораблѣ, гляди, попадетъ, что
такъ одинъ шатаюсь, а чѣмъ я виноватъ?» Такъ говорю, чисто даже плачу.
Они мнѣ все: —«Исай, да Исай». А какой я тамъ Исай — когда я Мартынъ …
Мартынъ Галеркинъ, совѣтскiй гражданинъ» … Ничего они граждане, не
понимаютъ ну, чисто, несознательные буржуи …
Въ публикѣ смѣялись, сочувствовали
Галеркину. Да и игралъ Фирсъ, Нордековъ даже удивлялся — съ громаднымъ природнымъ
юморомъ. И ничего пока не было въ этой фильмѣ, что могло бы возбудить
подозрѣнiе въ томъ, что это не совѣтская фильма.
Мартынъ Галеркинъ толкался по Лондону, стоялъ
передъ витринами громадныхъ магазиновъ бѣлья и платья. Толпа сновала кругомъ
и было видно, какъ она одѣта. Галеркинъ былъ въ ней пятномъ. Онъ попадалъ
и въ рабочiе кварталы, и публика видѣла англiйскихъ рабочихъ, о комъ ей
говорили, что они съ голода умираютъ и живутъ много хуже совѣтскихъ.
Наконецъ, какой то не то англичанинъ, не то Русскiй эмигрантъ, — это было
неясно въ фильмѣ, принялъ участiе въ Галеркинѣ, снабдилъ его
англiйскими фунтами и узналъ для него, что «Украина» ушла во Францiю и потомъ
должна пойти въ Италiю. Онъ научилъ Галеркина, какъ ему догонять свой
совѣтскiй пароходъ.
Галеркинъ пустился въ свободное путешествiе.
На экранѣ появились чистые, красивые пароходы, совершающiе рейсы между
Дувромъ и Калэ, прекрасный Парижскiй поѣздъ и, наконецъ, Парижъ во всемъ
его великолѣпiи. Публика видѣла толчею автомобилей у площади Оперы,
городового со свисткомъ останавливающаго движенiе для прохода нарядной толпы
пѣшеходовъ. Въ этой толпѣ, какъ завороженный шагалъ въ своей
грязной толстовкѣ и въ небрежно намотанномъ на шею шарфѣ Галеркинъ.
Онъ всему теперь удивлялся, но не менѣе его удивлялась тому, что
видѣла, и публика.
Галеркинъ пришелъ къ заключенiю, что ему тоже
нужно купить «буржуазный» костюмъ. Онъ свободно мѣняетъ фунты на франки.
— Это тебѣ не совѣтскiй червонецъ,
— съ горькой иронiей восклицаетъ онъ.
Въ магазинѣ онъ мѣряетъ платье.
— И какъ это у нихъ, граждане, все просто.
Никакихъ тебѣ квитковъ, или профкарточекъ, никакихъ тебѣ очередей.
Въ полчаса такъ обрядили, что подошелъ къ зеркалу и себя не узналъ: — чисто
буржуй мериканскiй.
Нордековъ видѣлъ изображенiе на
экранѣ магазина «Самаритэнъ», заваленнаго товарами, платьями, пальто, галстухами,
воротничками, рубашками, матерiями, кружевами, башмаками, чулками, мужскими и
дамскими шляпами, его громадный базаръ на улицѣ въ толчеѣ сытаго и
празднаго народа и видно народа небогатаго, простого, рабочихъ и
ремесленниковъ.
— Глянь, братокъ, — прошепталъ сзади Нордекова
какой то молодой человѣкъ, — товаровъ то навалено и никто ничего не
сопретъ … Удивительно какая это буржуазная, значитъ, культура …
Нордековъ оглянулся на говорившаго. Тотъ жадными
глазами уставился на экранъ. Въ темнотѣ его глаза блистали.
Когда Галеркинъ примѣрялъ и получалъ
костюмъ, сосѣдъ Нордекова сказалъ:
— Однако просто у нихъ, какъ у насъ въ довоенное
время у Эсдерса или у Мандля.
Галеркинъ попадалъ на пищевой рынокъ Парижа.
Раннее утро. Громадные возы, запряженные
тройками и четвериками слоноподобныхъ лошадей, холеныхъ и красивыхъ въ ихъ
тяжелыхъ окованныхъ мѣдью хомутахъ, подвозили горы цвѣтной капусты,
мясныя туши, раздѣланныхъ свиней, корзины съ рыбой. Между кими
проѣзжали грузовики, везли зелень, цвѣты, хлѣба, фрукты … Носильщики
не успѣвали сгружать. Народъ сновалъ кругомъ. Торгъ шелъ во всю.
Глухой гулъ голосовъ шелъ по театру.
Видѣнная, непридуманная правда била въ глаза своимъ страшнымъ контрастомъ
буржуазнаго изобилiя передъ большевицкой нищетой.
У чекистовъ, у власть имущихъ, у секретныхъ сотрудниковъ
начало закрадываться подозрѣнiе, да точно ли это постановка Гос-кино? …
Уже не провокацiя, не новое неслыханное до сей поры «вредительство» тутъ
происходитъ? И кое кто, кто желалъ выслужиться, побѣжалъ на телефонъ
доложить о своихъ впечатлѣнiяхъ.
Сеансъ представленiя продолжался при все
болѣе и болѣе напряженномъ вниманiи зрителей.
Совершенно преображенный въ европейскомъ костюмѣ,
выбритый и вымытый, въ рубашкѣ съ воротничкомъ и галстухомъ, въ
котелкѣ и башмакахъ съ суконными гетрами, настоящiй «Шарло» — Галеркинъ
прiѣхалъ въ поискахъ «Украины» въ Италiю, и въ Римѣ попалъ на смотръ
молодыхъ фашистовъ Муссолини.
Красивые, сытые, хорошо упитанные, отлично
выправленные, одѣтые въ синюю матросскую форму въ синихъ беретахъ
мальчики держали спецiально для нихъ сдѣланныя, совсѣмъ какъ
настоящiя ружья «на караулъ».
— Что твои «ком-сомольцы», — одобрительно замѣтилъ
Галеркинъ, и зрители всѣмъ нутромъ своимъ поняли глубокую иронiю этого
замѣчанiя. Молодые фашисты когортами и центурiями маршировали мимо Муссолини,
щеголяя выправкой и однообразной одеждой. Никакого подобiя не было съ
голоднымъ, вороватымъ, съ испитыми пороками лицами хулиганскимъ ком-сомоломъ …
На экранѣ вмѣсто Римскаго пейзажа
появилась мраморная доска и на ней были начертаны золотомъ: — «Заповѣди
фашиста». Галеркинъ стоялъ сбоку и вниматель-но разсматривалъ ихъ. Эта картина
надолго застыла на экранѣ, чтобы зрители могли запомнить и оцѣнить
заповѣди фашиста и сравнить ихъ съ тѣмъ, чему ихъ обучаютъ
коммунисты.
— Намъ говорили, все одно — фашистъ - коммунистъ,
— сказалъ сосѣдъ Нордекова, ни къ кому не обращаясь, — а между прочимъ
видать разница огромадная.
На экранѣ сверкали золотомъ изображенныя
слова:
«1) Богъ и Родина. Все остальное послѣ
этого.
«2) Кто не готовъ отдаться Родинѣ и Дуче
душой и тѣломъ безъ всякихъ оговорокъ — не достоинъ черной рубашки
фашиста. Фашизмъ не для посредственности.
«3) Понимай приказанiя и съ охотой и рвенiемъ
ихъ исполняй.
«4) Дисциплина для солдатъ — она же и для фашистовъ.
«5) Плохой сынъ и плохой школьникъ — не фашисты.
«6) Работа для тебя радость, а игра —
дѣло.
«7) Страдай, не жалуясь, будь щедръ, ничего
самъ не прсся, служи другимъ безкорыстно.
«8) Доброе дѣло и военная доблесть не
дѣлаются наполовину.
«9) Въ виду смертельной опасности спасенiе въ
доблестномъ дерзновенiи.
«10) Благодари Бога ежедневно, что Онъ создалъ
тебя итальянцемъ и фашистомъ».
Галеркинъ дочиталъ до конца надписи и,
повернувшись къ зрителямъ, сказалъ, снимая котелокъ.
— Прочиталъ … Конечно, не по нашему коммунистическому,
а между прочимъ тоже здорово пущено … Потрясли все нутро мое … Совсѣмъ бы
сразили, да вспомнилъ я, какъ мой ветхозавѣтный старорежимный папаша, отъ
котораго я отрекся и даже въ газетахъ о томъ пропечаталъ, училъ меня когда то
Суворовскимъ завѣтамъ. Я ихъ совершенно запамятовалъ, а вотъ сейчасъ
почему то они мнѣ вспоминаются, просто какъ огнемъ жгутъ меня.
На экранѣ еще стояла доска съ
заповѣдями фашиста, когда вдругъ тоненькой огненной ленточкой гдѣ
то вдали загорѣлась строчка, она стала быстро накатываться, приближаясь,
становясь все ярче и больше и вмѣсто первой заповѣди фашиста стала
большая огненная надпись:
1) За вѣру, Царя и Отечество. Все
остальное суета суетъ.
Галеркинъ прочелъ эти слова и низко поклонился
имъ.
— Святыя между прочимъ слова, — прошепталъ
онъ, — давно забытыя, а какiя чудныя слова!
И сейчасъ же въ глубинѣ народилась и
понеслась на экранъ другая, за ней третья, тамъ четвертая и дальше строчки и
стали выстраиваться на мѣсто заповѣдей фашиста.
2)До издыханiя будь вѣренъ Государю и
Отечеству. Убѣгай роскоши, праздности и корыстолюбiя, ищи славу черезъ
истину и добродѣтель.
3) Два воинскихъ искусства: — первое — глазомѣръ,
второе — быстрота.
4) Зри въ части семью, въ начальникѣ
отца, въ товарищахъ братьевъ.
5)Родство и свойство съ долгомъ моимъ: — Богъ,
Государь, Отечество.
6) Работать быстро, споро, по Русски.
7) Терпи! На службу не напрашивайся, отъ службы
не отказывайся.
8) Смотри на дѣло въ цѣломъ.
9) Дерзай.
10)Помилуй Богъ! Мы Русскiе! Возстановимъ по прежнему
вѣру въ Бога Милостиваго! Очистимъ беззаконiе! Вы — Русскiе!
Эти надписи, крупныя, яркiя, огнями горящiя,
четкiя, ясныя, не вызывающiя никакихъ сомнѣнiй кричали о самой подлинной
контръ-революцiи. Всѣ растерялись сидѣли какъ пришибленные, ждали
громовъ, но вмѣсто кихъ въ театрѣ стала мертвая, напряженная,
жуткая тишина.
Въ эту тишину внушительно и страшно, потрясая
до самаго сердца вошли громко сказанныя съ экрана Галеркинымъ слова:
— Вы русскiе!!
…
XIX.
«Гос-кино показываетъ новое изобрѣтенiе:
— теле-визоръ. Тонъ фильмъ».
На экранѣ былъ радостный свѣтлый
видъ. Розовыя скалы и горы, кусты кактусовъ и алоэ, и между ними въ Русскихъ
красивыхъ старинныхъ костюмахъ Царскихъ сокольниковъ стоялъ хоръ. Нордековъ сейчасъ
же призналъ и видъ — то былъ Россiйскiй островъ, и хоръ — это былъ ихъ
Гласовскiй хоръ.
Теноръ Кобылинъ, — какъ было не узнать его и
его нѣжнаго, за душу берущаго голоса! — вышелъ впередъ и звонко и
нѣжно, протяженно, сжимая сердце сладкимъ восторгомъ произнесъ:
— Сто-ро-онись! …
Басы и баритоны великолѣпнаго хора
подхватили дружно и мягко:
— Ты дороги той …
Пѣшiй, конный не пройдетъ живой.
Могучiй, красивый басъ — какъ напомнилъ онъ
Шаляпина! — завелъ пѣсню, ясно выговаривая слова:
— Тамъ, гдѣ
сосны растутъ, тамъ гдѣ птицы поютъ,
Тамъ въ дремучемъ
лѣсу партизаны живутъ.
Берегись ты дороги
той —
Пѣшiй,
конный не пройдетъ живой …
Голоса хора еще звенѣли, когда
запѣвало продолжалъ пѣсню:
— Разъ вечерней
порой — комиссаръ молодой
Велъ отрядъ свой
лихой — по дорогѣ лѣсной …
Хоръ дружно взялъ:
— Берегись ты
дороги той.
Пѣшiй,
конный не пройдетъ живой.
Въ жуткой, могильной тишинѣ, гдѣ
въ смертельномъ страхѣ замерли люди, гдѣ холодѣли отъ ужаса
сердца былъ зловѣще спокоенъ голосъ красоты несказанной,
— Наши братчики
тамъ — залегли по кустамъ.
Каждый взялъ на
прицѣлъ—дружно залпъ прогремѣлъ …
Хоръ пѣлъ припѣвъ. Въ залѣ
съ затаеннымъ дыханiемъ ожидали продолженiя безумно смѣлой пѣсни.
— Въ Гепеу
говорятъ: — сгинулъ красный отрядь.
Въ эту чащу
зайдешь — безъ слѣда пропадешь …
Кое-кто тихонько, согнувшись, по темному корридору
крался къ выходу. Сверкнула свѣтомъ прiоткрытая дверь. Въ догонку уходившимъ
отъ грѣха подальше неслось:
— He вернется
домой — комиссаръ молодой.
Гдѣ убитъ,
гдѣ зарытъ — только вѣтеръ шумитъ …
Теноръ запѣлъ сладкимъ стономъ.
— Сто-ро-онись …
Глухой говоръ и возмущенные крики покрыли голоса
хора:
— Довольно! …
— Бросить надо! … Гады! …
— Буржуйская пѣсня!
— Это, граждане, что же за провокацiя такая.
Чего же это милицiя такое допускаетъ?
— Имъ это шутки для собственнаго самоуслажденія,
а намъ отвѣтъ держать придется.
Пустили свѣтъ. Зрители поднимались
темнымъ валомъ. Крики возмущенiя не прекращались. Визжали совѣтскiя
барышни. Испуганнымъ стадомъ публика шарахнулась къ выходамъ. Кто то грозно
крикнулъ величественнымъ «полицейскимъ» басомъ:
— Чего выпускаютъ зря? … Обыскивать надо!
Этотъ крикъ увеличилъ панику и смятенiе.
По стѣнамъ кинематографа, ярко и пестро
расписаннымъ футуристическимъ узоромъ, на высотѣ человѣческаго
роста вилась лента изъ наклеенныхъ бумажныхъ Русскихъ флачковъ. Въ ихъ
лѣвыхъ верхнихъ углахъ были изображенiя восьмиконечнаго православнаго креста
со славянскими буквами надписью: — «Господи спаси Россiю». На бѣлой
полосѣ было напечатано: — «Коммунизмъ умретъ — Россiя не умретъ», и
наискось черезъ каждый флачокъ: — «Братство Русской Правды».
Парчевскiй былъ правъ въ своемъ
оптимизмѣ: — и здѣсь работало невидимое, и тайное «Братство» …
Милицейскiй пытался задержать толпу. Его опрокинули.
По пустынному, зловѣщему, точно настороженному и таящему страшныя
опасности, проспекту 25-го
октября люди шли
потрясенные, раздавленные, угнетенные, пришибленные непонятнымъ страхомъ и
молчали, молчали, молчали … Внизу подъ самымъ сердцемъ шевелилось какое то
новое чувство, точно совѣсть говорила о чемъ то далекомъ и основательно
позабытомъ, о чемъ нельзя, не нужно, о чемъ просто — страшно думать. Точно тамъ
встала Россiя, забытая, выкинутая изъ души и сердца, «угробленная», и …
воскресшая.
И такiя же молчаливыя, придавленныя толпы шли
навстрѣчу изъ «Паризiаны», «Колизея», «Пикадилли», «Светлой Ленты», и
другихъ кинематографовъ Невскаго проспекта.
Какой то подгулявшiй зритель, по виду рабочiй,
впрочемъ, Нордековъ здѣсь никакъ еще не могъ разбирать людей по
профессiямъ, вѣроятно, стопроцентный коммунистъ, не боящiйся никого,
вышелъ на торецъ мостовой, заелозилъ стоптанными грязными башмаками по мокрымъ
торцамъ и, выражая то, что происходило въ душахъ прохожихъ запѣлъ на всю
улицу:
— Безъ меня меня женили,
Я на
мельницѣ былъ …
XX.
На другой день по распоряженiю Гепеу всѣ
кинематографы Ленинграда были закрыты. У всѣхъ стояли наряды полицiи. Шли
обыски. Кинооператоры были арестованы.
А еще черезъ день no всему городу пошелъ невидимый,
неизвѣстно кѣмъ пущенный слушокъ, чтр начальники, руководившiе
обысками и арестами были найдены въ своихъ квартирахъ мертвыми. Врачи не могли
установить причину смерти. Но ясно, что она была насильственная. И въ
народѣ ее какъ то связали съ тѣмъ, что было въ кинематографахъ, съ
обысками и арестами. Это была месть. Божiе наказанiе. «Огонь поядающiй» сошелъ
съ неба и пожралъ тѣхъ, кто помогалъ коммунистамъ угнетать Русскiй
народъ.
Каждый день какой то невидимый и неслышный
аэропланъ разбрасывалъ по городу листовки, слова и ноты новыхъ пѣсень. Тѣхъ
пѣсень, что слышали въ кинематографѣ въ ту ночь, слова тѣхъ
заповѣдей, что заповѣдалъ Русскому народу его великiй Суворовъ и которыя
были показаны въ фильмѣ рядомъ съ заповѣдями фашиста. Эти листки и
ноты боялись подбирiать и все таки, потаясь, подхватывали, «чтобы отнести въ милицiю»,
a по пути читали и заучивали наизусть.
Кинематографы, громкоговорители и радiо были
закрыты и опечатаны. Вездѣ искали контръ-революцiю и модное «вредительство».
Но ищущiе, дѣлающiе выемки, обыски и опросы чекисты, дѣлали это
несмѣло, безъ обычной наглости. Передъ ними стояли призраки людей,
внезапно погибшихъ послѣ такихъ же обысковъ.
Какая то сила высшая, чѣмъ сила
коммунистовъ появилась и распоряжалась съ неумолимою справедливостью. Въ
работѣ Гепеу, до этого времени такой точной, безстрастной и жестокой
начались перебои и послабленiя.
Лишенный зрѣлищъ и развлеченiй голодный
народъ волновался. Увеличилось пьянство. Самые необыкновенные слухи рождались
въ праздной, никѣмъ не руководимой толпѣ.
Говорили … Гдѣ-то на Волгѣ нашли
въ родникѣ вырѣзанное изъ дерева изображенiе Христа. И будто ходившiе
къ этому роднику богомольцы разсказывали, что видѣли въ водѣ
колодца подлѣ этого родника св. Николая Чудотворца на конѣ. И то,
что никогда св. Николая Чудотворца не изображали коннымъ, толковалось
богомольцами, какъ особое предзнаменованiе.
Св. Николай Чудотворецъ всегда почитался, какъ
защитникъ и печальникъ о Русской землѣ и то, что онъ сѣлъ на коня,
показывало, что онъ ополчился на брань за Русскiй народъ. И говорили, что
коммунистамъ пришелъ конецъ …
Все это было очень непрiятно и тревожно для
управленiя Петрокоммуны. Приближалось 25-ое октября. День знаменательный, день
захвата власти большевиками и по установленному обычаю день — табельный и
нарочито празднуемый въ Ленинградѣ. Къ этому дню готовились шествiя.
Совѣтскiе служащiе и рабочiе должны были собираться по районно и идти со
своими красными знаменами торжественной процессiей къ могиламъ жертвъ
революцiи. Проспектъ 25-го октября убирали флагами и плакатами, мели и чистили,
но обычнаго, хотя и принудительнаго подъема въ населенiи не ощущалось. Ждали въ
этотъ день чего-то особеннаго и боялись идти.
Была во всемъ городѣ придавленность и
страхъ событiй, надвигавшихся и неотвратимыхъ. Много говорили о Богѣ, о
Его силѣ и Его гнѣвѣ. Въ церквахъ было больше, чѣмъ
обыкновенно, молящихся.
XXI.
Октябрьскiй день былъ теменъ и хмуръ. Морозило
и была гололедка. Съ утра попархивалъ снѣжокъ. Черныя, чугунныя статуи на
Аничковскомъ мосгу были точно тонкимъ Оренбургскимъ пуховымъ платкомъ, накрыты
снѣговымъ узоромъ. Было холодно, скользко, но сухо. Мостовыя были покрыты
зеленоватою жесткою грязью. Весь Ленинградъ, и старые и малые, сгонялись
порайонно, чтобы составить внушительныя колонны. Части красной армiи подходили
со своими музыкантами. Многiе заводы пришли съ заводскими оркестрами. Въ
сумеркахъ рождающагося дня, то тутъ, то тамъ раздавалась музыка. Играли
Марсельезу, Интернацiоналъ и марши. Команды распорядителей звучали громко и
властно. Намерзшiе, съ утра ничего не ѣвшiе служащiе, плохо одѣтые,
съ недовольными, хмурыми лицами топтались на мостовыхъ, ожидая приказа идти.
Нордековъ присматривался къ толпѣ. За
эти дни онъ понялъ, что было бы очень опасно жить въ Петербургѣ въ
гостинницѣ, еще того хуже было бы устроиться въ уплотненной квартирѣ,
быть всегда съ совѣтскими людьми и на людяхъ. Тамъ неизбѣжно онъ
сталъ бы предметомъ любопытства, наблюденiй, возможио, разспросовъ. Тамъ каждый
его промахъ вызвалъ бы доносъ, слѣжку и арестъ. Но въ ихъ
«экстерриторiальномъ» домѣ, въ ригѣ, подлѣ деревни Коломягъ
—онъ былъ въ полной безопасности. Его могъ выдать только костюмъ, но костюмъ
былъ по-совѣтски безупреченъ. Онъ самъ и стоявшiй неподалеку отъ него
Парчевскiй такъ сливались съ толпой, что признать въ нихъ пришлыхъ было
невозможно. Вѣрно сказалъ незнакомецъ, ихъ выдавали только глаза. У
всѣхъ кругомъ—глаза были усталые и потухшiе. Въ нихъ отразилось, что
всѣ эти шествiя, процессiи, пролетарскiе праздники давно смертельно
надоѣли. Никакого революцiоннаго пафоса не замѣчалось. Шли по
тяжелой обязанности, исполняя нудную повинность. Старики совсѣмъ завяли,
молодежь бодрилась. Кругомъ точно собаки-овчарки подлѣ барановъ сновали
распорядители, носатые, подрумяненные морозомъ брюнеты. Они покрикивали,
устанавливая порядокъ. Къ нимъ то и дѣло подъѣзжали велосипедисты,
сообщавшiе о томъ, что дѣлается въ сосѣднихъ районахъ и когда можно
будетъ трогаться … Собирались по заводамъ и предпрiятiямъ. Гидромеханическiй заводъ
«Пожарное дѣло» съ улицы Скороходова пришелъ по улицѣ
Бѣлинскаго и сталъ сзади рабочихъ завода «Транспортъ» съ проспекта
Энгельса. Какой-то молодой человѣкъ съ горящими, какъ угли мрачными
глазами отыскивалъ бумажную фабрику «Возрожденiе».
Впереди заиграли «Интернацiоналъ». Невыразимо
печальны были звуки оркестра. Они двоили, отдаваясь эхомъ о дома улицы.
Сильнѣе посыпалъ снѣгъ и сталъ таять. Колонна тронулась.
Пробѣжалъ съ красной нарукавной повязкой распорядитель и крикнулъ:
— Граждане, прошу соблюдать революцiонный порядокъ!
Парчевскiй протолкался къ Нордекову и сказалъ:
— Помнишь у Блока: — «революцiонный держите
шагъ — неугомонный не дремлетъ врагъ». Давай-ка, братъ, пробираться впередъ.
Пора. Наши уже тамъ: — «неугомонный не дремлетъ врагъ» …
Онъ ничего не боялся, этотъ молодчина гусаръ
Парчевскiй! Онъ уже примѣтилъ, что, кромѣ организованныхъ
фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, много было людей, приведенныхъ домовыми
комитетами и просто любопытныхъ, никому не знакомыхъ.
Толпа во образѣ колонны тронулась. Переднiе,
должно быть, комсомольцы, пытались идти въ ногу. Толпа имъ мѣшала. При
всемъ кажущемся порядкѣ было очень много безпорядка, и Парчевскiй это
сейчасъ же оцѣнилъ. Была толпа — значитъ — можно было работать. Ее надо
было обратить въ психологическую толпу и заставить поддаться внушенiю.
Впереди запѣли «Интернацiоналъ».
Голосисто завизжали дѣвки работницы, сбили съ тона и смолкли.
Рядомъ съ Нордековымъ шелъ человѣкъ
среднихъ лѣтъ и разсказывалъ своему сосѣду:
— На шести еропланахъ прилетѣли ночью.
Мнѣ Вузовецъ съ Калининскаго Политехникума докладывалъ. У нихъ, значитъ,
пьянка была, расходились подъ утро, вотъ оно и свѣтать начинаетъ. На
поле, у деревни Ручьи спускается еропланъ и весь онъ серебряный … Ну,
грандiозный! И совсѣмъ ничего не слышно, какъ моторъ работаетъ …
Спустился и сейчасъ, значитъ, четыре въ кожаныхъ курткахъ какъ выскочатъ и
разбѣжались по угламъ поля. Ну, видно, самые чекисты. И сейчасъ еще и еще
шесть ероплановъ, ну такъ грандiозно это вышло … Онъ и не сталъ смотрѣть,
можетъ, тайна какая, еще въ отвѣтъ попадешь.
— Откуда же они прилетѣли?
— А кто же ихъ знаетъ, вѣдаетъ.
Парчевскiй, внимательно слушавшiй этотъ разговоръ
и не перестававшiй глазами шарить по толпѣ, показалъ Нордекову впередъ:
— Смотри, Гласовцы.
Теноръ Кобылинъ въ какихъ-то стариковскихъ оловянныхъ
очкахъ, въ шапкѣ собачьяго мѣха, въ красномъ шарфѣ,
совсѣмъ вѣчный совѣтскiй Вузовецъ, или шкрабъ
шелъ, усмѣхаясь подлѣ троттуара. Онъ увидалъ Нордекова и
Парчевскаго, но и вида не показалъ, что узналъ ихъ. Басъ Труниловъ безъ шапки
въ рваной фуфайкѣ спокойно разспрашивалъ милицейскаго. Весь Гласовскiй
хоръ былъ въ головѣ колонны.
Въ толпѣ пробовали пѣть. Но, или
всѣмъ смертельно надоѣлъ уныло звучащiй «Интернацiоналъ» и совсѣмъ
не бодрая рабочая Марсельеза, или не подобрались по голосамъ, не было регента,
но пѣли ужасно уныло и нескладно.
— Мыши кота хоронятъ, — сказалъ тотъ, кто разсказывалъ
о прилетѣ «грандiозныхъ» аэроплановъ.
Голова колонны вышла на Невскiй. Снѣгъ
все сыпалъ, таялъ на черныхъ суконныхъ толстовкахъ, на рваныхъ пальтишкахъ,
текъ слезами по щекамъ. Легкiй паръ поднимался надъ толпою. Бурое небо
опустилось низко надъ домами. Перешли черезъ Аничковъ мостъ и, свернувъ на
Садовую, тѣсно сдавились въ рядахъ. Впереди въ лиловыхъ туманахъ
показались черныя голыя деревья Михайловскаго сада. Инженерный замокъ казался
призракомъ. Въ его оградѣ стояли конныя части. Отъ мелкихъ косматыхъ
лошадей шелъ густой паръ.
Марсово поле было совсѣмъ близко. Оно
было залито толпой, стоявшей между кустовъ сада. Тамъ было странно тихо. Должно
быть посерединѣ, у могилъ жертвъ революцiи, говорили рѣчи, и толпа,
хотя и невозможно было слышать, стояла, прислушиваясь въ напряженной тишинѣ.
Что-то невнятно бубнилъ громкоговоритель.
Вдругъ … Нордековъ не могъ уловить, какъ это
про-изошло, въ эту тишину, нарушаемую только шелестомъ шаговъ по мокрому снѣгу,
да частымъ кашлемъ, съ силою, съ особымъ бодрымъ призывомъ вошла смѣло запѣтая
большимъ прекраснымъ хоромъ на мотивъ стараго Петровскаго марша дерзновенная пѣсня.
Она началась разомъ, по невидимой палочкѣ, гдѣ-то въ толпѣ
бывшаго регента.
Подымайтесь,
братья, съ нами
Знамя Русское
шумитъ,
Надъ горами, надъ
долами
Правда Русская
летитъ.
Подъ это бодрое и лихое пѣнiе всѣ
какъ-то подтянулись. Шагъ сталъ ровнѣе, взяли ногу. Молодой распорядитель
подсчиталъ: — «лѣвой, правой, разъ, два» … Головы поднялись. Стали
прислушиваться. Хоръ въ толпѣ перешелъ ко второму колѣну марша и
красивымъ переливомъ продолжалъ:
— Мы отъ
дѣдовъ правду эту
Въ нашемъ
сердцѣ сберегли.
Вырвемъ Русскую
побѣду
У враговъ своей
земли ….
Съ силою, полными, далеко несущимися голосами
продолжали:
Славу Русскому
народу
Дружно, громко мы
поемъ.
За нарiодную
свободу
Противъ красныхъ
мы идемъ.
Съ нами всякъ, кто
вѣритъ въ Бога,
Съ нами Русская
земля
Мы пробьемъ
себѣ дорогу
Къ стѣнамъ
древняго Кремля …
Заверещали свистки милицейскихъ … Кто-то
побѣжалъ, подбирая полы длинной шинели, къ Инженерному Замку. Въ
толпѣ началось смятенiе. Одни устремились впередъ, подальше отъ этой
смѣлой пѣсни, другiе проталкивались назадъ. Переднiе, поддавшись
обаянiю лихой и бодрой пѣсни, смѣло и гордо шагали въ ногу, подъ
ясное и все болѣе и болѣе воодушевленное пѣнiе:
— Крѣпче бей
нашъ Русскiй молотъ
И греми, какъ
Божiй громъ,
Пусть падетъ во
прахъ расколотъ
Сатанинскiй
Совнаркомъ ….
Смерть проклятымъ
комиссарамъ.
Нѣтъ у насъ
пощады имъ.
Русскимъ дружнымъ
мы ударомъ
Эту нечисть истребимъ
….
Изъ двора Инженернаго Замка рысью
выѣзжалъ эскадронъ конной милицiи. Кое-кто, шедшiй за хоромъ, бросился
бѣжать. Была страшная давка и смятенiе. И только маленькая кучка словно
очарованныхъ пѣнiемъ людей бодро шла впередъ навстрѣчу
выстраивавшему фронтъ эскадрону, и особенно ярко, звонко и смѣло гремѣлъ
на все поле дружный хоръ:
Подымайтесь, братья, съ нами
Знамя Русское шумитъ,
Надъ горами, надъ долами
Правда Русская летитъ …
Эскадронъ пробился черезъ толпу бѣгущихъ
и, выстраивая фронтъ и разгоняя прижимающихся къ домамъ и рѣшеткамъ садовъ
людей, рысью пошелъ на поющихъ. Пѣсня не смолкала. Она неслась дерзкимъ
неудержимымъ вызовомъ.
Внезапно развернулся и яркой молнiей блеснулъ
въ сумрачномъ воздухѣ, въ снѣгу и туманахъ октябрьскаго
Петербургскаго дня, сверкая сквозь снѣговую кисею
и колеблясь въ
призрачкыхъ тонахъ большой Русскiй Бѣло-сине-красный флагъ …
— Маршъ-маршъ, — скомандовалъ остервенѣлый
краскомъ и выхватилъ изъ ноженъ шашку.
Люди, стоявшiе на окраинѣ сада Марсова
поля, давно услышавшiе пѣнiе, повернулись лицомъ къ Садовой. Между голыхъ
кустовъ, на покрытыхъ тающимъ снѣгомъ буро-зеленыхъ газонахъ, вдоль
набережной Мойки, вездѣ были растерянныя, не знающiя, что дѣлать
толпы. Все въ этотъ мигъ атаки замерло и смотрѣло съ ужаснымъ, волнующимъ
вниманiемъ, какъ начнется чекистская рубка.
И вдругъ — «а-а-аххъ» … стономъ пронеслось
надъ толпами.
Весь эскадрокъ, точчо сраженный какою-то
сверхъестественною силою, всѣ люди и лошади, будто онѣ разомъ
подскользнулись на мокрыхъ и скользкихъ торцахъ упали на землю и такъ и
остались лежать на ней совершенно недвижимые. Никто не смотрѣлъ, что было
дальше, куда дѣвался Русскiй флагъ, куда скрылись дерзкiе пѣвцы, но
всѣ, какъ заколдованчые, смотрѣли на темный валъ изъ людскихъ и
конскихъ тѣлъ сраженныхъ неслышной и невидимой силой и легшихъ неподвижиою
грядою поперекъ «улицы 3-го iюля».
Такъ, когда-то, въ 1917-мъ году, 3-го iюля, на
Литейномъ проспектѣ подкошенные большевицкимъ залпомъ, легли поперекъ проспекта
доблестные Донскiе казаки. Въ память этой бойни большевики назвали большую Садовую
улицу «улицею 3-го iюля». Она напомнила о себѣ. Она отомстила за
казаковъ.
Объ этомъ невольно думали въ толпѣ,
расходившейся съ церемонiи. Думали и боялись своихъ думъ, воспоминанiй и
надеждъ … Говорить, ничего не говорили … Самыя думы были страшны …
«Богъ вернулся къ Сѣверной столицѣ
… Замолила наши грѣхи передъ Господомъ Казанская Божiя Матерь … Огонь
поядающiй настигъ на улицѣ злыхъ гонителей и насильниковъ …»
Думали, мысленно, потаечно молились и молчали,
молчали, молчали … Въ эти дни въ Петербургѣ была такая тишина, какой
никогда со времени существованія Сѣверной столицы въ ней не было.
Тишина ожиданiя..
И такъ отвѣчали этой тишикѣ хмурые,
темные, туманчые, послѣднiе дни октября съ темнобурымъ низкимъ
непрозрачнымъ небомъ съ мелко моросящимъ дождемъ, съ тьмою надъ городомъ, съ
тусклымъ мерцанiемъ съ утра зажженныхъ фонарей.
XXII.
Праздникъ 25-го октября въ Москвѣ
праздновался гораздо торжественнѣе и оживленнѣе, чѣмъ въ
Петербургѣ. Близость начальства, незримое присутствiе самого творца
совѣтскаго союза Владимiра Ильича Ленина, словно спящая красавица
лежавшаго въ хрустальномъ гробу, подъ громаднымъ каменнымъ кубической формы безобразнымъ
саркофагомъ, наличность большого числа иностранныхъ и инородческихъ
коммунистовъ, пылкихъ азiатовъ и даже африканцевъ, проповѣдниковъ
коммунизма — все это подстегивало толпу, заставляло ее бодрѣе
маршировать, склоняя знамена, мимо могилы Ленина, забывая голодъ и морозъ.
Начальство къ этому дню заготовляло бутерброды и раздавало манифестантамъ, что
увеличивало рвенiе голодныхъ толпъ городского пролетарiата и рабочихъ.
День выдался ясный и солнечный. Небо было безъ
единаго облака. Октябрьское солнце грѣло мало, но слѣпило на выпавшемъ
наканунѣ молодомъ и чистомъ снѣгу глаза. Много было нагнано нищей и
оборванной замерзающей дѣтворы изъ различныхъ школъ и прiютовъ. Все это
шагало черезъ Красную площадь съ утра, показывая мощь пролетарiата, въ чинномъ порядкѣ.
Порядокъ этотъ соблюдался строго. Кремль былъ оцѣпленъ отрядами чекистовъ,
и Николай Николаевичъ Чебыкинъ, — пятнадцать лѣтъ тому назадъ прокуроръ
Окружного Суда въ этой самой Москвѣ, самъ коренной Москвичъ, сразу
почувствовалъ, что исполнить возложенное на него и на его «экипъ» капитаномъ
Немо порученiе ему будетъ не такъ то просто …
У Кремлевскихъ воротъ толпу процѣживали,
и пропускали только тѣхъ, о комъ было извѣстно отъ какой организацiи
они шли. Требовали отъ одиночныхъ людей какихъ-то особыхъ пропусковъ, и
этихъ-то пропусковъ и не было дано Чебыкину. He знали этого что ли Ястребовъ и
генералъ Чекомасовъ, но они не снабдили ими «экипъ», посланый для работы въ
Москву. Все дѣло такъ прекрасно налаженное могло сорваться изъ-за этой
мелочи.
Куда ни пристраивался Чебыкинъ со своимъ «экипомъ»,
всюду его спрашивали, откуда онъ и кто?
— Вы, гражданинъ, чего? Здѣсь отъ
«Прибоя» … Чебыкинъ шелъ къ другому сборищу, но тамъ собирался
«Стандартъ-строй», дальше — «Тепло и сила», «Мосельпромъ», все то, что пропускалось
въ Кремль, было зарегистрировано, было извѣстно чекистамъ. Сѣрая,
никому неизвѣстная, никѣмъ не рекомендованная, безпартiйная толпа
въ Кремль не могла получить доступа … Чебыкинъ былъ въ полномъ отчаянiи. Вдругъ
какой-то человѣкъ къ нему присмотрѣлся, потомъ подошелъ почти
вплотную и сказалъ внушительно и вѣско:
— Если вы, граждане, отъ «Красной вагранки»,
вамъ надо идти съ нами.
Онъ еще ближе придвинулся къ Чебыкину, чуть
распахнулъ на груди черную грубую толстовку, и Николай Никодаевичъ на мгновенiе
увидѣлъ на шеѣ незнакомца такъ хорошо знакомый ему «братскiй»
крестъ. Тогда Чебыкинъ спокойно отвѣтилъ:
— Я и мои товарищи отъ «Красной вагранки».
Незнакомецъ обратился къ распорядителю, бронзовому
молодому человѣку, не то индусу, не то сарту и сказалъ съ авторитетностью
человѣка, имѣющаго власть:
— Товарищъ, допустите вотъ ихъ … Они намъ
извѣстны. Делегаты отъ «Красной вагранки» …
Шествiе тронулось въ Кремль,
Отъ яркаго кумача, затянувшаго трибуны и самыя
стѣны Кремля все кругомъ было точно въ какомъ-то пламенномъ сiянiи. Синее
небо блистало надъ Кремлемъ. Бѣлый снѣгъ площади постепенно
заполнялся темной толпой, надъ которой полыхали тутъ и тамъ красныя знамена и
плакаты. Все было ярко, красочно и аляповато, какъ грубый народный лубокъ.
Въ морозномъ воздухѣ гремѣли
оркестры. Красная армiя становилась на площади правильными прямоугольниками
резервчыхъ колоннъ. Командные крики, четкость построенiй создавали
впечатлѣнiе порядка и усиливали праздничную торжественность Красной площади.
На трибуны съѣзжалось правительство. Сквозь толпу, гудя и фырча,
проходили автомобили комиссаровъ. Конная милицiя крупами лошадей, не хуже былыхъ
жандармовъ, осаживала правовѣрный, отцѣженный народъ. Кое-гдѣ
для острастки посвистывали нагайки. Толпа была молчалива.
Чебыкинъ окинулъ глазомъ площадь. «Хватитъ
ли», — подумалъ онъ. Его сосѣдъ, помощникъ его въ «экипѣ», «въ
мiру», какъ онъ про себя говорилъ, — присяжный повѣренный Демчинскiй,
точно угадалъ его мысль.
— Если всѣ шесть разомъ, хорошо выйдетъ:
мнѣ профессоръ говорилъ — два квадратныхъ километра въ десять секундъ …
Придется таки намъ съ вами сегодня поплакать.
Музыка прекратилась. Безконечныя,
вѣроятно, съ ранняго утра проходившiя мимо могилы «Ильича» процессiи,
были остановлены и поставлены лицомъ къ трибунѣ. Настало время
рѣчей. Чебыкинъ посмотрѣлъ на часы.
— Пора, — шепнулъ онъ Демчинскому. Нажатiемъ
руки снаружи пальто, — руки въ карманахъ запрещено было держать, — онъ
освободилъ холодную склянку, морозившую ему бедро, и почувствовалъ, какъ она
быстро скользула вдоль ноги и упала подлѣ сапога. Онъ наступилъ на нее
ногою.
Прошла томительная секунда, показавшаяся Чебыкину
вѣчностью. За эту секунду такъ много онъ передумалъ. «Вдругъ испортился
составъ, ничего не выйдетъ. сосѣди замѣтятъ раздавленное стекло,
его заподозрятъ, схватятъ, поведутъ, и придется пускать то самое страшное, отъ
чего чья-то произойдетъ смерть». Это казалось Чебыкину ужасно труднымъ, просто
таки невозможнымъ.
Ледяной токъ бѣжалъ по жиламъ. Говорятъ,
передъ казнью вся жизнь проносится быстрымъ потокомъ, такъ теперь неслась
передъ Чебыкинымъ въ воспоминанiяхъ его жизнь въ маленькомъ пригородномъ
мѣстечкѣ, работа въ газетѣ, скромныя эмигрантскiя развлеченiя
и пустота и тина Парижской жизни Русской колонiи. Какою прекрасной она
показалась ему сейчасъ! Сердце отбивало въ вискахъ секунды и, несмотря на
морозъ, лобъ вспотѣлъ подъ легенькой каскеткой. Чебыкинъ овладѣлъ
собою и сталъ отсчитывать секунды. Ему казалось, что ихъ прошло что-то ужасно
много. «Десять, одиннадцать, двѣнадцать», — считалъ онъ. И все страшнѣе
и страшнѣе становилось ему. Онъ не смѣлъ оглянуться.
Вдругъ что-то ударило ему въ носъ, какъ
ударяетъ изъ пѣнистаго бокала шампанская игра. Сразу защипало глаза,
сжало до боли вѣки и крупныя слезы покатились по щекамъ. Чебыкинъ собралъ
всѣ свои силы, заставилъ себя открыть глаза и черезъ пелену слезъ окинулъ
взглядомъ площадь. Странное зрѣлище представилось ему. Вся громадная
площадь, заставленная войсками, покрытая народными толпами, точно получила какой-то
ударъ. Рѣчь, такъ самоувѣренно, властно, самохвально и сильно звучавшая
съ трибуны, вдругъ оборвалась на полусловѣ. Въ рядахъ красной армiи было
шевеленiе, ружья держали кое-какъ, люди опустили головы, повсюду были видны
бѣлые платки. Утирались рукавами, кулаками, терли глаза ладонями и не
могли остановить слѣпящаго потока слезъ. Никто не могъ поднять глазъ къ
небу, а между тѣмъ именно съ неба то и неслось то, что должно было
оскорбить, смутить и поразить собранныхъ здѣсь правовѣрныхъ,
«стопроцентныхъ» коммунистовъ. Но посмотрѣть въ эту голубую высь, пронизанную
золотыми солнечными лучами, казалось— потерять зрѣнiе навсегда.
Величественные, плавные, возбуждающiе,
несказанно красивые звуки стараго, «бывшаго» Русскаго народнаго гимна лились съ
небесной вышины.
Сколько разъ, на коронацiяхъ Императоровъ, на
парадахъ и церемонiяхъ на этой самой Красной площади, въ этихъ самыхъ
стѣнахъ Кремля, подлѣ его соборовъ и церквей, подлѣ дворцовъ,
помнящихъ былыхъ Царей и Великихъ Князей Московскихъ, въ теченiе почти ста
лѣтъ играли этотъ гимнъ. И точно стѣны Кремля, башня Ивана
Великаго, стѣны и купола Успенскаго собора и Василiя Блаженнаго впитали,
вобрали въ себя и сохранили эти молитвенно чистые возбуждающiе на подвигъ любви
звуки и теперь излучали ихъ непостижимымъ образомъ среди людей, отъ Отечества
своего отрекшихся.
Можетъ быть, только инородцы и жиды, — этихъ
было особенно много въ толпѣ и на трибунахъ, — да зеленая комсомольская
молодежь ничего не чувствовали, кромѣ недоумѣнiя и злобы. Всѣ
остальные, закоренѣлые, матерые коммунисты изъ продавшихся власти интернацiонала
Царскихъ генераловъ, изъ ученыхъ, профессоровъ и чиновниковъ, изъ старыхъ
рабочихъ, видавшихъ и знавшихъ иныя времена и порядки, почувствовали, какъ
гдѣ-то далеко внутри ихъ должно быть тамъ, гдѣ все-таки есть душа,
которую они отрицаютъ, что то вмѣстѣ съ непроизвольными слезами
поднялось и смутило ихъ. И стало казаться, что вотъ эти самые звуки, съ
дѣтства святые и священные, съ дѣтства дорогiе, ибо въ нихъ отражалось
Отечество, великая и могучая Россiи, именно они то и вызвали эти неудержимыя,
неукротимыя слезы, остановить которыя никто не могъ.
Тяжелые вздохи и всхлипыванiя раздавались вокругъ
Чебыкина. Гимнъ кончился. Въ наступившей на мгновенiе тишинѣ кто-то
громко, съ тяжкимъ вздохомъ произнесъ:
— Что потеряли то!
И сейчасъ же раздалось мощное: — «пумъ, пумъ,
пумъ» и съ неба полились четкiе звуки прекраснаго оркестра:
— Боже, Царя храни …
Сильный, Державный,
Царствуй на славу,
На славу намъ …
А между тѣмъ здѣсь эти слова были
величайшимъ святотатствомъ, болѣе того — государственнымъ преступленiемъ,
крамолой. Чекисты старались поднять застекленные слезами глаза къ небу и
разглядѣть тѣхъ дерзновенныхъ, кто тамъ въ небесной вышинѣ —
и какъ! — смѣлъ играть.
Гимнъ былъ проигранъ три раза. И когда въ
третiй разъ смолкли его торжественные, мощные звуки, слезы стали течь
медленнѣе, пароксизмъ плача, ибо что же это могло быть, какъ не
болѣзненный припадокъ? — сталъ проходить и люди очухались.
Тогда рискнули взглянуть вверхъ.
Чистая синева была въ небѣ. Золотыми
пузырьками струились въ немъ солнечные отблески, ходили вверхъ и внизъ въ
затѣйливой игрѣ.
Ни естественнаго, какого-нибудь тамъ что ли
воздушнаго шара, ни сверхъестественнаго — ангеловъ, трубящихъ въ трубы, тамъ не
было. Чистое, октябрьское, Московское небо, сiянье полуденныхъ солнечныхъ лучей
и въ немъ купола старыхъ церквей Кремлевскихъ — больше ничего.
Но даже на трибунѣ, гдѣ собрался
махровый цвѣтъ людской лжи и наглости, поняли, что теперь нельзя, ибо
совершенно безполезно, продолжать рѣчь о достиженiи «пятилѣтки», о
побѣдѣ коммунистовъ въ Германiи, о финансовомъ крахѣ Англiи и
о раболѣпствѣ передь большевиками Францiи. Неубѣдительны и
смѣшны показались бы теперь эти слова.
Было приказано расходиться.
Толпы шли колоннами и нестройными группами. Въ
нихъ каждому хотѣлось говорить, обсудить, что же это въ самомъ
дѣлѣ произошло, какъ и кѣмъ могло быть все это сдѣлано?
Но говорить никто не смѣлъ. Секретные агенты, какъ никогда, были
внимательны и шныряли повсюду и каждый въ каждомъ видѣлъ врага, шпiона и
доносчика. Страненъ былъ видъ этихъ тысячныхъ толпъ, двигавшихся по
Москвѣ въ гробовомъ молчанiи. Зимнiй день клонился къ вечеру. Румяная
заря горѣла надъ городомъ. Отъ земли поднимался туманъ. Въ немъ призраками,
вышедшими изъ могилъ мертвецами, казались всѣ эти люди, расходившiеся по
своимъ конурамъ.
Въ совѣтѣ народныхъ комиссаровъ
было собрано чрезвычайное совѣщанiе. Ничего таинственнаго ни въ слезахъ,
ни въ гимнѣ найдено не было. Оркестръ былъ спрятанъ гдѣ-то на
башняхъ. Можетъ быть, даже его игру передавали по радiо, усиленному
громкоговорителемъ. Въ толпу были пущены слезоточивые газы. Кто установилъ
этотъ оркестръ или радiо-аппаратъ, кто пустилъ газы — должно было установить
Гепеу.
Начались обыски и повальные осмотры Кремля со
всѣми его закоулками и тайниками. Однако, смущенные таинственными смертями
своихъ товарищей, уже нѣкоторое время неизмѣнно слѣдовавшими
за слишкомъ большое служебное старанiе и рвенiе, агенты Чрезвычайки на этотъ
разъ обыскивали безъ должнаго усердiя и рвенiя и ничего и никого не нашли.
Страхъ и растерянность овладѣли обычно
такими самоувѣренными и наглыми Московскими владыками. Такъ некстати
пришло показанiе одного Ленинградскаго помпрокурора о томъ, что, примѣрно
годъ тому назадъ, къ нему являлся нѣкiй гражданинъ, именовавшiй себя
Ѳомою Ѳомичемъ Ѳоминымъ, Кронштадтскимъ мѣщаниномъ,
повидимому, сумасшедшiй. Этотъ Ѳоминъ вычитывалъ передъ прокуроромъ изъ
Библiи пророчество Данiилово и предсказывалъ такую же скорую гибель Сталина и
совѣтской республики.
И шептали, что будто бы самъ Сталинъ потребовалъ
себѣ Библiю и читалъ Данiилово пророчество. Ѳомина было приказано
разыскать и арестовать, но какъ оказалось, тогда же Ѳоминъ былъ
арестованъ и за дерзкiя слова и храненiе запрещенной книги сосланъ на далекiй
сѣверъ … А далекiй сѣверъ ….
Вотъ уже пять мѣсяцевъ, какъ никто
ничего не могъ сказать, что тамъ происходило …
Слухи оттуда шли самые невѣроятные и
ужасные.
XXIII.
О событiяхъ, происходившихъ этою осенью въ
Москвѣ, Ленинградѣ и другихъ большихъ городахъ республики
естественно въ совѣтскихъ газетахъ ничего не писали. «Правда»,
«Извѣстiя», «Красная газета» въ обычныхъ оффицiальныхъ, приподнятыхъ
тонахъ съ наиграннымъ пафосомъ описали торжества по случаю праздника республики,
но въ пафосѣ этомъ можно было замѣтить и какую-то несвойственную
большевикамъ сдержанность. И редакторы газетъ, и казенные писатели, и рабкоры
знали, что народъ уже все зналъ и, если молчалъ, то молчанiе его становилось
все болѣе грознымъ и зловѣщимъ,
Какъ ни туго былъ завязанъ платокъ на рту
совѣтскаго обывателя, какъ ни былъ онъ прiученъ молчать и скрывать свои
чувства и думы, въ народѣ опредѣленно говорили, что коммунистамъ
пришелъ конецъ, что Царь идетъ съ сѣвера, и настала пора расплаты за все.
Отъ этихъ страховъ грядущей расплаты полицейскiй аппаратъ слабѣлъ неудержимо.
Въ народѣ крѣпло сопротивленiе властямъ.
Налоги поступали неправильно, неаккуратно и не
въ должномъ размѣрѣ. Колхозы не сдавали хлѣбъ въ казну, но
дѣлили его между рабочими, продавали на сторону. Потомъ стали и земли
колхозовъ дѣлить между собою. Кто-то пустилъ въ народѣ слухъ, что
самъ Сталинъ приказалъ дѣлить колхозы «въ собственность». Что это новая
экономическая политика, вызванная мiровымъ кризисомъ, новый НЭП, такъ
называемый «нео-нэпъ», особый свыше одобренный «прогибъ» и «уклонъ».
Красная армiя отказывалась выступать противъ
колхозниковъ. Во многихъ частяхъ армiи и флота произошли безпорядки «на
экономической» почвѣ. Эти безпорядки были, пожалуй, самими большевиками
подготовлены. Они такъ усердно показывали матросамъ и солдатамъ Эйзенштейновскiй
фильмъ «Броненосецъ Потемкинъ» и въ немъ учили матросовъ, какъ имъ надо поступать,
когда имъ дадутъ не свѣжую провизiю. Продовольствiя не хватало уже и на
армiю. Въ одинъ скверный ноябрьскiй день на броненосецъ «Парижская Коммуна»
было доставлено мясо съ червями. Матросы взбунтовались, сбросили «комсоставъ»
въ воду и открыли огонь по Кронштадту. Къ «Парижской Коммунѣ»
присоединился линейный корабль «Маратъ». Успокоить разъяренныхъ матросовъ
удалось, лишь убѣдивъ ихъ, что это дѣло рукъ «вредителей» и что эти
«вредители» будутъ подвергнуты самымъ жестокимъ пыткамъ, а затѣмъ смертiю
казнены.
Предстояли срочные платежи по Германскимъ, Англiйскимъ
и Французскимъ займамъ. Страна была объята возстанiями и собирать принудительно
хлѣбъ было невозможно. Казна была пуста.
Къ счастью большевиковъ, все это произошло тогда,
когда они успѣли задолжать кругомъ крупныя суммы промышленникамъ,
поддержаннымъ государственными банками, и во всемъ мiрѣ началась тревога,
какъ помочь совѣтскому правительству подавить возстанiя и окрѣпнуть
настолько, чтобы оно снова могло эксплоатировать Русскiй народъ и выжимать изъ
него средства для уплаты по долгамъ. Еще къ великой радости большевиковъ къ
этому времени имъ удалось заключить со всѣми большими государствами
Европы пактъ о ненападенiи, войти въ довѣрiе передъ Лигой Нацiй,
убѣдить всѣхъ въ своемъ миролюбiи, «пацифизмѣ», а это въ
тѣ времена былъ тотъ самый червячокъ, на который особенно охотно клевала
демократическая рыбка.
Совѣтское правительство демонстрировало
передъ всѣмъ мiромъ свое тяжелое положенiе вслѣдствiе непрекращающихся
возстанiй и указывало, что, если ему не будетъ оказана помощь денежная, а если
понадобится, то и войсками, въ Россiи неминуемы еврейскiе погромы и
возстановленiе Императорской власти.
Большевицкая власть по своему составу была еврейская
власть. На всѣхъ командныхъ постахъ преимущественно, а въ
комиссарiатѣ иностранныхъ дѣлъ почти исключительно сидѣли евреи.
Русскiй народъ былъ прочно зажатъ въ еврейскiе тиски и обращенъ въ ра бовъ
еврейскаго капитала. Теперь этому самому капиталу грозила опасность не получить
того, что задолжала ему совѣтская власть. Торговля во всемъ мiрѣ
глохла, страшный экономическiй кризисъ охватилъ государства Европы. Количество безработныхъ
исчислялось миллiонами. Скандалы въ кинематографахъ, гдѣ пытались показывать
совѣтскiя фильмы, препятствiе торговлѣ совѣтскими товарами,
все это раздражало торговый и банкирскiй мiръ, и было рѣшено оказать
мощную экономическую поддержку большевикамъ, чтобы они могли справиться со
своими финансовыми затрудненiями и подавить всѣ возстанiя и безпорядки,
не прекращавшiеся съ нѣкотораго времени въ странѣ.
Съ этою цѣлью нѣсколько самыхъ
крупныхъ представителей мiрового банковскаго мiра должны были съѣхаться
на совѣщанiе въ ноябрѣ, въ одномъ изъ банковъ Берлина и тамъ
обсудить какъ и въ какой степени капиталистическiй мiръ можетъ помочь
государству, гдѣ осуществляется чистый соцiализмъ.
Наканунѣ засѣданiя собравшiеся
банкиры, и каждый на томъ языкѣ, на которомъ онъ говорилъ, получили
отбитыя на машинкѣ анонимныя записки. Этими записками они предупреждались,
что если они соберутся на это засѣданiе, они погибнутъ страшною смертью.
Это было принято, какъ «бѣлогвардейская»
выходка Русскихъ эмигрантовъ, людей безсильныхъ. Съ ними давно надо было
прикончить. На записки не было обращено никакого вниманiя. Помѣщенiе
банка охранялось громаднымъ нарядомъ явной и тайной Берлинской полицiи. Лучшiе
полицейскiе агенты всѣхъ странъ, откуда были банкиры, были вызваны для
охраны банка. Никакая опасность не могла угрожать собравшимся. Въ цѣломъ
кварталѣ было прекращено движенiе, жители сосѣднихъ домовъ были
выселены и на ихъ мѣсто посажены полицейскiе агенты. Никогда ни одно
коронованное лицо не охранялось такъ тщательно и заботливо, какъ охранялись эти
жиды банкиры, владыки мiрового капитала.
И тѣмъ не менѣе …
Какъ это случилось — надъ этимъ ломали головы лучшiе
криминалисты всего мiра и представители политическаго и уголовнаго розыска
Европы. Каждая ихъ догадка, однако, сейчасъ же опровергалась, и догадокъ было
много, отгадки ни одной.
Во время засѣданiя, когда читался
докладъ мѣстнаго представителя совѣтской власти, все зданiе,
солидно, съ нѣмецкою основательною фундаментальностью построенное изъ
громадныхъ гранитныхъ глыбъ, было объято совсѣмъ необычайнымъ пламенемъ.
Жаръ быль такъ силенъ, что расплавились стальныя камеры кладовыхъ и не только
всѣ кто былъ внутри зданiя, но и вся наружная охрана живьемъ
сгорѣли въ какое-нибудь мгновенiе. Въ противоположныхъ домахъ полопались стекла
и загорѣлись деревянныя двери и створки оконъ. Все это продолжалось
какiе-нибудь полчаса. Пожарные едва успѣли прiѣхать, какъ отъ
зданiя остались только обугленныя стѣны. Спасать и тушить было нечего.
Внутри въ хаотическомъ безпорядкѣ были навалены куски погнутаго
расплавленнаго желѣза, камни, да въ известь обращенныя человѣческiя
кости. Золото въ сейфахъ было расплавлено и перемѣшалось съ камнями и
мусоромъ, отъ бумажной валюты и кассовыхъ книгъ ничего не осталось.
«Огонь поядающiй» сошелъ съ неба и попалилъ
пособниковъ дiавола.
Конечно, такое объясненiе не годилось для
правительствъ тѣхъ странъ, откуда были банкиры. Вызванные спецiалисты,
химики и артиллеристы признали, что такiе составы, могущiе все обратить въ
пламень, могли быть. Тутъ нѣтъ ничего ни Божескаго, ни чудеснаго. Подобныя
бомбы имѣются въ воздушныхъ флотахъ мiра.
Странно было, что никто не слышалъ грохота
разрыва, никто не видѣлъ аэроплана, прилетѣвшаго къ зданiю банка, а
между тѣмъ банкъ охранялся воздушнымъ флотомъ.
Возмущенiе по этому поводу было громадное, и
на требованiя совѣтскихъ представителей о примѣрномъ наказанiи
«вредителей», наглость которыхъ превзошла всѣ мѣры, было торжественно
обѣщано, что, если совѣтское правительство докажетъ, что эти
вредители имѣютъ какую-то базу внѣ совѣтской республики, что
ихъ дѣйствiя направляются изъ заграницы, распоряженiемъ Лиги Нацiй будетъ
составленъ мощный международный отрядъ, которому будетъ поручено истребленiе
этой базы.
Докладъ капитана Холливеля въ «Интеллидженсъ
Сервисъ» о таинственномъ кинематографическомъ обществѣ «Атлантида»
рѣшилъ дѣло. Детективнымъ бюро и развѣдкамъ всего мiра было
приказано отыскать во что бы то ни стало мѣсто нахожденiя пассажировъ
парохода «Немезида».
Въ этомъ совѣтской власти помогла
Русская «бѣлая» эмиграцiя.
XXIV.
Зимою этого года въ Русскомъ эмигрантскомъ мiрѣ
много говорили о томъ, что образовавшееся въ прошломъ году кинематографическое
общество «Атлантида» вовсе не кинематографическое общество, а бѣлогвардейскiй
отрядъ, навербованный какимъ-то генераломъ для дессантныхъ операцiй въ
совѣтской Россiи. Называли и имя этого генерала, впрочемъ, всякiй разъ
разное. А съ нѣкоторыхъ поръ стали говорить, что этотъ отрядъ собрался на
какомъ-то уединенномъ острову въ Атлантическомъ океанѣ недалеко отъ
Саргассова моря, тамъ устроилъ базу, съ этой базы говоритъ по радiо и посылаетъ
своихъ людей на аэропланахъ во всѣ страны Европы.
Эти слухи пошли изъ Парижа и даже,
точнѣе, изъ того маленькаго предмѣстья Парижа, такъ называемаго банлье,
гдѣ была вилла «Les Coccinelles». Точно тамъ кто то бросилъ камень въ
воду и какъ отъ такого брошеннаго камня идутъ все расширяющiеся круги, такъ и
отъ слуховъ, пошедшихъ оттуда, пошла вся эта молва. И чѣмъ дальше отъ
Парижа, тѣмъ ярче и шире были разсказы о томъ, что тамъ дѣлается.
Въ Югославiи этотъ отрядъ обратился въ цѣлый корпусъ Императорской армiи
съ настоящими цвѣтными дивизiями, навербованными изъ необычайно
воинственныхъ туземцевъ этого острова. Въ Болгарiи это былъ уже не корпусъ,
но цѣлая
двухсоттысячная армiя и при ней мощный тоннажъ для доставки ея въ Россiю. Тамъ
по фамилiямъ называли генераловъ, назначенныхъ въ эту армiю. Ихъ
будто бы нарочно
показывали умершими. Называли и цифру прогонъ и пособiй, яко бы полученныхъ
этими генералами: сто долларовъ на дорогу и сто на экипировку.
Эти слухи по разному отзывались въ различныхъ
эмигрантскихъ кругахъ. Большинство, и особенно, люди старые, радостно
волновались. Наконецъ-то дождались они движенiя воды. Они подавали начальникамъ
отдѣловъ Русскаго Обще-Воинскаго Союза, честь честью, по командѣ,
прошенiя о принятiи на службу съ приложенiемъ, кто тщательно сквозь всѣ
бури и ненастья эмигрантскаго существованiя пронесенныхъ подлинныхъ послужныхъ
списковъ на толстой, пожелтѣвшей отъ времени «министерской» бумагѣ,
съ сургучными печатями, прошнурованныхъ и скрѣпленныхъ должными
подписями, кто прилагалъ только записки о своей службѣ самимъ же подавателемъ
и составленныя по памяти и посвидѣтельствованныя двумя или тремя товарищами,
знавшими прохожденiе службы просителя … Многiе офицеры и казаки бросали насиженныя
мѣста и кормившую ихъ работу и ѣхали въ столицы тѣхъ странъ,
гдѣ они жили и тамъ просили, чтобы они въ первую очередь были посланы въ
формируемую армiю. Чѣмъ дальше отъ Парижа, тѣмъ въ этихъ кругахъ было
сильнѣе оживленiе. Въ Болгарiи и Югославiи казаки вырядились въ высокiе
сапоги, сѣрозеленыя «гимнастерки», а Кавказцы въ черкески, подоставали
изъ завѣтныхъ сундучковъ и корзинъ старыя шашки, чистили ихъ, точили и
смазывали, готовясь къ настоящему походу. Слова «сборъ» и «походъ» громко и
внушительно звучали по кафанамъ и Русскимъ ресторанчикамъ, столовымъ и чайнымъ
и къ концу завтраковъ тамъ раздавались страстныя рѣчи, сопровождаемыя
громовымъ ура!
Молодежь отнеслась холоднѣе и
подозрительнѣе. Кое-кто женился на иностранкахъ, у кого завелись прочныя
связи и работа въ прiютившихъ ихъ государствахъ, бросать все это такимъ
упорнымъ, тяжелымъ и долголѣтнимъ трудомъ нажитое и устроенное для
чего-то неопредѣленнаго и неизвѣстнаго, было тяжело. Роли
перемѣнились: въ энтузiастахъ и легкомысленно летящихъ на огонь бабочкахъ
оказались старики, въ холодныхъ, разсудительныхъ философахъ была молодежь.
— Для Россiи — да … — говорили въ ея кружкахъ.
— Для Родины, конечно, Это словъ нѣтъ — свято … Но кто поведетъ и подъ
какими лозунгами?
Собранiя союзовъ молодежи, а ихъ къ этому времени
было немало, протекали съ бурною страстностью. Раздавались истерическiе
выкрики:
— Нѣтъ, господа … Ни на какую реакцiю я
не согласенъ … Старая Россiя себя изжила … Старой Россiи не можетъ быть.
Смѣшно идти въ теперешнюю Россiю съ Императорскими знаменами и навязывать
императора народу, который его не хочетъ. Я стою за подлинную демократiю. Въ
ней вижу залогъ настоящей культуры и возрожденiя Россiи.
Въ другомъ кружкѣ не менѣе
страстно говорили:
— Кому, господа, служить и за что умирать? He
служить же какимъ-то таинственнымъ капитанамъ Немо, едва ли не масонскаго
происхожденiя?.. Надо служить Россiи, и Россiи нацiональной. Другой Россiи я не
признаю. Россiя — это прежде всего — православiе и Царская власть. Внѣ
православiя и Царской власти нѣтъ и Россiи, а потому съ
«непредрѣшенцами» я не пойду. За «непредрѣшенчествомъ» скрываются
господа Милюковы, Гучковы и Керенскiе. Тѣ, кто первый сказалъ: —
«глупость или измѣна» и сталъ отцомъ проклятой революцiи, кто выпустилъ
приказъ № 1, разрушившiй Русскую армiю и давшiй Россiи несмываемый позоръ военнаго
пораженiя и разгрома, кто, сдавъ власть большевикамъ, погубилъ Россiю.
Повторять эти пути, идти этими же этапами Учредительнаго собранiя, матроса
Желѣзняка и Ленина предоставляю другимъ. Я этимъ путемъ не пойду.
Законную Россiю порядка можно создавать только законнымъ путемъ … Для меня
свято то, что говоритъ мой императоръ: — «подъ лозунгомъ борьбы съ большевиками
вожди эти принесутъ нашему Отечеству порабощенiе его самобытности, расхищенiе
его природныхъ богатствъ, а можетъ быть, и отторженiе еще новыхъ областей и
оттѣсненiе отъ выходовъ къ морямъ» … И потому я противъ всякой борьбы.
Пользуясь полной свободой собранiй во Францiи
молодежь собиралась на большiя открытыя сборища по 200-300 человѣкъ, нанимали
для этого залы, куда допускали всѣхъ, взимая лишь на покрытiе расходовъ
по два франка и тамъ кричали и шумѣли о тайной организацiи, скрывшейся
подъ фирмой кинематографическаго общества «Атлантида». Розыскъ всѣмъ этимъ
былъ весьма облегченъ.
— Тайное, — кричали на этихъ собранiяхъ
горячiя головы. — Ты мнѣ скажи, кто ты и во что ты вѣруешь — тогда
я пойду … Довольно авантюръ. Освободить Россiю безъ иностранцевъ, безъ
иностранной помощи мы не можемъ, — это ясно, какъ шоколадъ. А отдавать Россiю
въ кабалу иностраннымъ государствамъ я не желаю. Россiя должна освободиться
сама и, освободившись, она скажетъ свое слово и этому слову я подчинюсь. Будетъ
монархiя — я присягну монархiи, будетъ республика, я готовъ служить и
республикѣ. Я «непредрѣшенецъ» въ силу того, что не считаю себя въ
правѣ навязывать свое мнѣнiе Русскому народу. А въ вождей я давно
пересталъ вѣрить … Довольно!..
Были и еще болѣе рѣшительные и
темпераментные молодые люди изъ самыхъ молодыхъ. Они договаривались до
примиренiя съ большевиками, они закидывали удочки къ комсомольцамъ и
безбожникамъ и, будучи строго православными и вѣрующими, готовы были идти
на союзъ съ безбожниками, будучи монархистами по убѣжденiямъ — искали
связей съ совѣтскими «ударниками» и «выдвиженцами». Они отрекались отъ
«бѣлой» борьбы, веденной ихъ отцами и старшими братьями и говорили, что
чувство отчужденiя эмиграцiи отъ Русскаго народа вызвано гражданской войной.
Они умышленно или по наивности говорили, что «бѣлые» сражались не съ большевиками,
но съ Русскимъ народомъ, что нужно отбросить въ себѣ чувство
презрѣнiя и мести къ Русскому народу и идти къ нему съ открытымъ сердцемъ
и чистою душою. Путая постоянно понятiя — большевики и Русскiй народъ они
доходили до примиренiя и признанiя большевиковъ.
Хаосъ въ мнѣнiяхъ, въ политическихъ
убѣжденiяхъ, программахъ и лозунгахъ былъ необычайный. И надо всѣмъ
нагло выпирало вездѣ звучащее самоувѣренное, наглое «я», «я», «я»,
то въ единственномъ числѣ, то во множественномъ — «мы». Оно становилось
такъ громадно, такъ внушительно, такъ всепоглощающе, что за нимъ совсѣмъ
не было видно маленькой, малюсенькой, точно по существу никому не нужной —
Россiи.
И это было въ то время, когда, несмотря на всю
скупость газетныхъ извѣстiй, на всю строгость цензуры, наложенной на
иностранныхъ корреспондентовъ, заграницу просачивались вѣрныя
свѣдѣнiя о необычайныхъ затрудненiяхъ совѣтской власти,
денежныхъ, экономическихъ и моральныхъ, о потерѣ всякаго авторитета
коммунистической партiи и о почти повсемѣстномъ возстанiи народа въ Россiи,
подавить которое или не могла или отказывалась красная армiя.
Доходили свѣдѣнiя, что весь
громадный сѣверъ Россiи, треть всего государства отдѣлился отъ
совѣтской республики и живетъ своею жизнью и шептуны болтали, что слыхали
даже о генералахъ и офицерахъ, поѣхавшихъ въ какой-то сѣверный,
свободный отъ совѣтской власти портъ для службы въ Императорской армiи. Всё это показывало, что настало время,
наконецъ, эмиграцiи выявить свое подлинное лицо и не только сказать о своемъ
служенiи Россiи, но и пойти служить ей.
Но этого-то и не было. Разноголосица продолжалась
…
XXV.
Но была и еще часть бѣженцевъ и, пожалуй,
самая многочисленная, которая совсѣмъ не интересовалась политикой, ею не
занималась, даже какъ будто ее осуждала и которая жила своею за слишкомъ десять
лѣтъ изгнанiя отстоявшеюся и устроившеюся жизнью, гдѣ борьба за
существованiе въ чужомъ государствѣ, заботы о хлѣбѣ насущномъ,
свои мелкiе, семейные, кружковые, приходскiе, полковые интересы заслонили
Россiю, гдѣ Россiя являлась чѣмъ-то отвлеченнымъ, о чемъ прiятно
вспоминать, что рисовалось нѣжными поэтическими красками, съ нѣкоторымъ
сентиментальнымъ оттѣнкомъ, но что не имѣло никакого реальнаго
смысла. Въ этихъ кружкахъ событiя, происходившiя въ ихъ бѣженской жизни и
связанныя съ существованiемъ и работою какого-то тайнаго общества, борющагося
съ большевиками, вызывало чувства тревоги, страха, безпокойства и
недоумѣнiя, что проще всего выражалось часто повторяемыми словами: — «ну
чего, право, они? Россiи они все равно не спасутъ, а сколько безпокойства
надѣлаютъ» … Были здѣсь люди, торговавшiе въ гаражахъ совѣтской
нефтью и на своей шкурѣ испытавшiе все неудобство такой торговли, были
люди, такъ или иначе связанные съ совѣтскимъ торгпредствомъ и рѣзко
отдѣлявшiе большевиковъ отъ ихъ торговли, наконецъ, здѣсь быди
просто люди какъ-то, и даже не особенно хорошо, устроившiеся заграницей,
имѣвшiе свой уголъ, свою семью, свою церковь. Этихъ людей охватывалъ
ужасъ при одной мысли, что поведенiе какой-то маленькой кучки людей, такъ
рѣшительно поведшей борьбу съ большевиками, можетъ навлечь на нихъ
давленiе со стороны правительствъ тѣхъ странъ,гдѣ они устроились, и
опять начнутся высылки, непрiятности и затрудненiя съ полученiемъ паспортовъ и
визъ и всяческiя политическiя и полицейскiя утѣсненiя. Впереди новыя
скитанiя и неизбѣжное съ ними разоренiе, нищета и голодная смерть.
Возможна и причудительная высылка в coвѣтскую республику … на
вѣрный разстрѣлъ.
Сознавала или нѣтъ Ольга Сергѣевна
Нордекова, что это была она тотъ человѣкъ, который кинулъ камень въ воду,
поведшiй отъ себя все расширяющiеся круги? Она не утерпѣла, чтобы не
разсказать о таинственномъ островѣ, гдѣ работали для спасенiя
Россiи Русскiе, и въ ихъ числѣ ея мужъ и сынъ. Сдѣлала она это въ
ихъ церкви послѣ спѣвки, въ маленькомъ и совершенно интимномъ
кружкѣ знакомыхъ, гдѣ, конечно, никакихъ большевиковъ не могло и
быть. Ей просто хотѣлось похвастать, что она знаетъ кое-что крупное и
интересное, чего другiе не знаютъ. Она намекнула про островъ вулканическаго
происхожденiя, о существованiи котораго никому не извѣстно и откуда
летаютъ сюда въ Парижъ таинственные аэропланы, откуда посылаютъ радiо и гдѣ
работаютъ тѣ, кто всего себя отдалъ Россiи. Она говорила, что если у кого
есть аппаратъ радiо, который можно поставить на короткую волну, то можно,
«знаете, такое слышать, что мураши по кожѣ побѣгутъ» …
Она сказала это просто такъ, въ порядкѣ
болтовни, ибо надо что-нибудь говорить, когда паступаетъ промежутокъ между
работой. Кромѣ того, мужъ и сынъ участники кинематографической съемки —
это одно, мужъ и сынъ участники какого-то таинственнаго дѣла для Россiи(,)
«спасители» Россiи — совсѣмъ другое … Этимъ прiятно было похвастаться.
Она сказала это въ порядкѣ той житейской пошлости, которая требуетъ въ
извѣстный моментъ и въ извѣстномъ положенiи сплетенъ. Сказала, даже
хорошенько не понимая о чемъ она говоритъ. Если бы ее спросили, что такое
короткая волна, она не сумѣла бы объяснить. Такъ не могла она отвѣтить
и на вопросъ, какъ же могутъ летать люди, когда вездѣ стоитъ охрана и
никто незамѣченный не мо жетъ перелетѣть границы государства?
Вскорѣ послѣ исчезновенiя Леночки
она съѣздила на колонiальную выставку, гдѣ на большомъ
глобусѣ по даннымъ Мишелемъ Строговымъ координатамъ отыскала мѣсто,
гдѣ долженъ былъ быть ихъ таинственный островъ.
Но, когда событiя стали затрагивать ихъ
заграничную жизнь, когда газеты стали съ возмущенiемъ писать о какихъ-то
шалопаяхъ, пустившихъ смѣхотворный газъ въ кинематографѣ на
Елисейскихъ поляхъ, когда еще съ большимъ возмущенiемъ и угрозами принять
мѣры противъ эмигрантовъ писали о скандалѣ на pay-тѣ у
графини Разогнатьевой, гдѣ послѣ закуски съ совѣтской икрой
творилось что-то совсѣмъ неприличное, и госпожа Воробейчикъ изъ-за этого
отказала своему жениху мосье Брюнуа, Ольга Сергѣевна испугалась не на
шутку.
— Мамочка,—сказала она послѣ вечерняго
чая, когда она обыкновенно читала газету. — Мамочка, какъ вы думаете, а не
можетъ это все отразиться на насъ … на бѣженцахъ.
— Очень даже просто, — прошипѣла съ
нескрываемымъ злорадствомъ старуха. — Доигрались … Дофигуряли … И чего имъ,
дуракамъ, надо? Эвона, Россiи захотѣли! Да сама-то Россiя ихъ никакъ не
хочетъ. И, конечно, никакое правительство этого допустить не можетъ. Францiя въ
дружбѣ съ совѣтами. Она только что подписала, то есть
«парафировала», — Неонила Львовна щегольнула словечкомъ, которымъ
пестрѣли газеты и смысла котораго она не понимала — парафировала пактъ о
ненападенiи, а развѣ все это не нападенiе?.. Какъ по твоему красиво это?
Какъ ни относиться къ графинѣ Разогнатьевой, она все-таки графиня и
дѣлать то, что тамъ было сдѣлано …. Ну гдѣ же это слыхано?
Это подрывъ Русской торговли.
— Большевицкой, мамочка.
— Э, милая моя, гдѣ кончаются интересы
большевиковъ и гдѣ начинаются интересы Русскiе, кто это опредѣлитъ?
Сами вожди въ этомъ не разбираются. Если Японiя нападетъ на Совѣтскую
республику и отберетъ у нея Владивостокъ, что мы должны дѣлать, стать на
сторону Японiи или Россiи?.. Такъ все запутано, такъ все перепутано, что лучше
этого и не касаться.
— Но, мамочка, это же дѣлается не во
Францiи, а на какомъ-то острову и никому даже не извѣстно точно, кому
принадлежитъ этотъ островъ.
— Ахъ, мать моя, да хотя бы и никому … Сидѣли
бы спокойно и не рипались. Ишь спасатели какiе непрошенные нашлись. Ну, твой
полковникъ, пускай, погибаетъ, туда ему и дорога. И Мишель твой дуракъ … Тоже не
жалко. Земля отъ этого не оскудѣетъ. Ну, а за что мы то съ тобой на старости
лѣтъ опять будемъ страдать?
— Да мы то тутъ при чемъ?
— Мы то … Да мы кто?.. Русскiе? … Эмигранты? …
Люди несуществующаго государства, кого изъ милости только терпятъ … А мы вотъ,
что задумали! Торговлѣ мѣшаемъ! … Ты понимаешь это? … Экономическiй
кризисъ, вездѣ торговля стала, и вдругъ какiе-то типы эдакое
дѣлаютъ … Выселить ихъ въ двадцать четыре минуты и вся недолга. Allez
vous en! Нежелательные иностранцы, чай, читала такое выраженiе въ газетахъ.
— Куда же насъ могутъ выселить?
— А имъ то что о насъ за забота. Кто мы?
— Русскiе.
— Ну и пожалуйте въ вашу совѣтскую
Россiю … Поняла, чай.
— Да развѣ можно это, мамочка! Каждый
понимаетъ, что тамъ насъ разстрѣляютъ.
— Ну такъ что изъ этого? Это насъ
разстрѣляютъ, а не ихъ …
Ольга Сергѣевна пожала плечами. За
окномъ шумѣлъ ноябрьскiй дождь. Въ крошечной комнатѣ тускло
горѣла перегорѣвшая почернѣвшая лампочка. Ольга
Сергѣевна, усталая и измученная за день пошла къ себѣ укладываться
спать.
«Ахъ, нелегка и заботна была жизнь …
Полковникъ, полковникъ!.. Вамъ все игрушки … А куда, ну куда на самомъ
дѣлѣ податься, если вотъ такъ придутъ и вѣжливо попросятъ
покинуть страну?.. Нежелательные иностранцы! … И правда — нежелательные! …
Пактъ о ненападенiи, и полковникъ, нападающiй такимъ необычнымъ образомъ … Куда
тогда бѣжать? Вездѣ одно и то же … Вездѣ: — признанiе, признанiе
и признанiе … Раньше была Испанiя. И какимъ благороднымъ казался король
Альфонсъ. А теперь … Что такое Испанiя? … Да и испанскаго языка она не знаетъ …
Куда? Можетъ быть, въ Бельгiю?.. Тамъ и король и королева и самъ народъ полны
такого гостепрiимнаго благородства. Но, какъ она сама такая маленькая, приметъ
всю эту массу бѣженцевъ, если они всѣ хлынутъ туда? Ну, хорошо …
Приметъ … A работа?
Гдѣ найти тамъ работу?.. Безъ работы все равно съ голода погибать. Не
написать ли заблаговременно Декановымъ? Они давно въ Брюсселѣ. Можетъ
быть, если загодя то позаботиться, пока никто не догадался что-нибудь и
набѣжитъ, какое-нибудь мѣстечко, чтобы хотя какъ-нибудь да
кормиться … А если?»
— Мамочка, вы спите?
— А ну! Заснешь съ тобой!.. Такая забота на
душѣ!..
— Мамочка, а что, если намъ съ вами принять
французское подданство …. Насъ тогда вѣдь не могутъ выслать?..
— Не желаю.
— Но почему, мамочка?
— А вотъ потому … Была Серпуховской дворянкой,
такой и останусь. Лучше къ большевикамъ поѣду, чѣмъ такъ на
старости лѣтъ француженкой дѣлаться. Ну, сама посуди, какая я
француженка?.. Неонила Львовна!.. Ни выговорить, ни написать по французски того
нельзя … Не смѣши меня, мать, на ночь. И тебѣ помимо мужа не
позволятъ … А твой, сама поди знаешь, какой — патрiотъ!..
Ольга Сергѣевна закрыла глаза.
«Да, конечно, глупости … Какъ это
сдѣлать? Есть, говорятъ, конторы. Даже въ газетахъ открыто публикуютъ,
точно ничего и постыднаго нѣтъ въ этомъ. Ну, пойду туда, тамъ станутъ
разспрашивать, почему?.. А что я скажу … Боже! Боже … Только бы спокойно
жить!.. Ничего мнѣ не надо … Ни богатства, ни Россiи. Ну, какъ я туда
прiѣду, тамъ никого своего и не осталось то! … Только бы никто не
выгонялъ! … И съ квартиры-то на квартиру переѣхать, такъ и то какая мука
и разоренiе! Хуже пожара, а тутъ въ чужую страну!.. Паспорта, визы! … Такъ ихъ
намъ и дадутъ … Жена полковника Нордекова, того самаго, который тамъ на
таинственномъ острову … Господи, и всю то жизнь такъ страдать изъ-за какого-то
глупаго патрiотизма, изъ-за долга» …
Ольга Сергѣевна повернулась лицомъ къ
стѣнѣ и долго не могла заснуть. Она слышала, какъ за стѣною
безотрадно шумѣлъ осеннiй Парижскiй дождь, и ей казалось, что сквозь
тонкiя плитки бетона она ощущаетъ сырость, бѣгущую по стѣнамъ и съ
тоскою думала о раннемъ вставанiи завтра, о томъ, что надо будетъ спѣшить
на поѣздъ электрической дороги и ѣхать въ надоѣвшую ей до
смерти контору и писать подъ диктовку на стенографической машинкѣ, а
потомъ до вечера перепечатывать никому не нужные и неинтересные торговые
приказы.
Жизнь казалась безпросвѣтной и ужасной и
она начинала понимать, что Леночка могла не вынести такой жизни и уѣхать
куда-то къ какой-то другой жизни … Ахъ, гдѣ-то она теперь, несчастная
Леночка!?
XXVI.
Князь Ардаганскiй соверщалъ пятнадцатый
перелетъ на аэропланѣ системы инженера Махонина. Ему никто это въ особую
заслугу не ставилъ, да и самъ онъ никогда не думалъ, что это подвигъ и рекордъ.
Аппаратъ Махонина, усовершенствованный Арановымъ, дѣлалъ такое сообщенiе
быстрымъ и удобнымъ. Опасность была только при спускѣ на землю въ
Европѣ, гдѣ все труднѣе и труднѣе было выбирать глухiя
мѣста, гдѣ бы аппаратъ могъ переждать, пока князь съѣздитъ къ
Пиксанову и получитъ отъ него пакеты. Парижъ былъ совсѣмъ заказанъ для
князя Ардаганскаго. Ему разрѣшалось только гдѣ-нибудь въ пути
бросить письмо матери и увѣдомить ее, что онъ живъ и здоровъ.
Пиксанову такъ и не удалось наладить Радiостанцiю.
Слѣжка была чрезвычайная. Пришлось закопать въ лѣсу моторъ и
всѣ принадлежности, а самого отца Ѳеодосiя отправить на Аѳонъ.
Теперь въ лѣсу ничего не оставалось. Бережливый Пиксановъ продалъ и
лошадей. Охота была сдана Парижскому охотничьему обществу. Куроводство
расширено. Съ осени Пиксановы занялись еще приготовленiемъ пастилъ и
мармеладовъ, имѣвшихъ прекрасный сбытъ въ Парижѣ въ Русской колонiи,
особенно послѣ того, какъ продукты Моссельпрома вышли изъ употребленiя.
По лѣсу и вокругъ фермы Пиксанова постоянно рыскали жандармы и
совѣтскiе сыщики и надо было быть вѣчно на сторожѣ.
Совѣтское правительство ухватилось за эту ниточку, чтобы раскрыть тайну
всей организацiи. Радiостанцiю искали неутомимо. Въ деревнѣ, гдѣ
никогда никакихъ дачниковъ не жило, поселились какiе-то Русскiе евреи, не
говорившiе никогда, что они Русскiе, и выдававшiе себя за французовъ. Надо было
быть осторожнымъ. Въ послѣднiй свой докладъ капитану Немо на Россiйскiй
островъ, Пиксановъ просилъ установить связь на аэропланахъ.
И она съ каждымъ разомъ становилась
ненадежнѣе и опаснѣе.
Въ этотъ перелетъ князю Ардаганскому давалъ
указанія самъ капитанъ Немо. Онъ сказалъ, чтобы князь проѣхалъ къ семьямъ
офицеровъ въ Парижѣ и передалъ имъ, что ихъ главы живы, здоровы и просили
кланяться.
Съ самаго лѣта, съ того iюльскаго дня,
когда князь передалъ синюю записочку Мишеля Строгова Леночкѣ, онъ не
бывалъ на виллѣ «Les Coccinelles» и не зналъ ничего о томъ, что тамъ
произошло.
День былъ буднiй. Ольга Сергѣевна была
на службѣ, и на дачѣ Ардаганскiй нашелъ только одну мамочку. Она
только что прибрала комнаты и собиралась съ чувствомъ и спокойствiемъ прочитать
газету. Топси узнала князя и, привѣтливо махая хвостомъ, проводила его до
дверей дома.
— А пожалуйте, вѣроломный съемщикъ, —
привѣтствовала князя мамочка. — Садитесь, гостемъ будете … Ну что наши?
— Полковникъ Георгiй Димитрiевичъ Нордекевь и
Александръ Георгiевичъ просили вамъ кланяться. Они оба живы и здоровы и все у
насъ благополучно.
— Ну, какъ снимаетесь? — съ глубокой старушечьею
иронiей спросила Неонила Львовна.
Князь Ардаганскiй не разобралъ и не
примѣтилъ этой иронiи и охотно со своимъ юношескимъ, чистымъ
простодушiемъ, не умѣющимъ лгать, отвѣтилъ неопредѣленно.
— Bсe, слава Богу, идетъ прекрасно. Съемка близится
къ концу. Всѣ чувствуютъ себя хорошо.
— А вы, милый князь, не врите, — съ грубоватою
фамильярностью сказала Неонила Львовна, — Такому молодому сочинять такой
старой, какъ я, совсѣмъ не годится.
Князь растерялся и не зналъ, что
отвѣтить.
— Вы же Леночкѣ передали синенькiй
пакетикъ отъ этого дурака Мишеля и совсѣмъ заморочили ей голову.
Разсказывайте, что и какъ на вашемъ, ни на одной картѣ не показанномъ
острову, происходитъ.
Ардаганскiй пытался еще сдѣлать круглые
глаза и робко сказалъ:
— Я, Неонила Львовна, не понимаю, о чемъ вы говорите.
— Э, батюшка, тутъ особенно и понимать не приходится,
когда и широты и долготы нашъ Мишель дурачокъ прописалъ и жаловался и просилъ
вызволить его изъ «бѣлогвардейской» авантюры, — съ грубою откровенностью
сказала Неонила Львовна. — Такъ то, милый князь.
Князь Ардаганскiй, сѣвшiй было по
приглашенiю мамочки, вскочилъ, какъ ужаленный.
— Гдѣ же Елена Петровна? — спросилъ онъ
несмѣло.
— На тебѣ, кого вспомнилъ! Да будто такъ
вотъ ничего и не знаешь.
И Неонила Львовна въ короткихъ, но
рѣзкихъ чертахъ разсказала о томъ, какъ Леночка передала матери записку
Мишеля Строгова, какъ она была страшно этимъ потрясена, какъ она, дружившая съ
ихъ жилицей, «кто ее знаетъ, что это за человѣкъ была эта самая
француженка», вмѣстѣ съ нею исчезла.
— He думаю я, чтобы чтонибудь этакое худое съ
ними приключилось. Здѣсь то, — намъ въ полицiи сказывали, — до пяти тысячъ
дѣвушекъ такъ, здорово живешь, ежегодно пропадаетъ и ничего съ ними
худого не бываетъ, а все-таки намъ не сладко. И думаю я, что это черезъ ваши
художества, которыми всѣ газеты полны.
Князь слушалъ это, какъ приговоренный къ смерти.
Записку писалъ Мишель, но какъ же онъ-то, онъ, вопреки инструкцiй, данныхъ Арановымъ,
никакихъ писемъ никому не возить и не передавать, далъ себя провести Мишелю,
уже бывшему у нихъ на замѣчанiи и отставленному самимъ Ранцевымъ отъ
полета.
Какъ въ мутномъ полуснѣ, плохо понимая,
что ему говорила мамочка, Ардаганскiй дослушалъ ея разсказъ и, простившись, вышелъ
съ дачи. Онъ шелъ по мѣстечку съ низко опущенной головой. Ему казалось,
что всѣ знаютъ, что онъ предатель, что онъ человѣкъ, не исполнившiй
своего долга, и ему было безконечно мучительно идти на маленькую чистенькую
дачку Парчевскихъ. Онъ молилъ Бога, чтобы никого не застать, оставить записку и
быть одному, все продумать и придумать себѣ кару.
Лидiя Петровна была дома. Она уже второй
мѣсяцъ оставила службу въ конторѣ и жила на тѣ деньги, которыя
ей продолжало весьма исправно посылать общество «Атлантида». Она вся отдалась
церкви. Худощавая и высокая и раньше, она показалась Ардаганскому точно
выросшей и еще болѣе исхудавшей. Громадные карiе глаза были въ красныхъ
отъ частыхъ молитвенныхъ слезъ вѣкахъ. Густыя, загнутыя вверхъ
рѣсницы дѣлали ихъ еще больше. Отъ вѣчной пелены слезъ они были,
какъ за хрустальной завѣсой и сверкали тихимъ и кроткимъ пламенемъ, какъ
затепленная передъ образомъ лампада. Ея движенiя были медленны, плавны и голосъ
сталъ задушевный и словно прозрачный.
Князь Ардаганскiй передалъ ей, что ея мужъ
находится въ полномъ здравiи и просилъ ей передать поклонъ.
— Да, я знаю, — тихо сказала Лидiя Петровна. —
Я, знаю. Я молилась вчера Божiей Матери, и Она
мнѣ сказала, чтобы я не безпокоилась. Скажите мнѣ, милый князь, —
Лидiя Петровна прикоснулась мягкой и нѣжной, точно невѣсомой рукою
руки Ардаганскаго, — скажите мнѣ откровенно: — онъ съ вами на острову или
и онъ посланъ работать куда-то и дѣлаетъ все это такое страшное, но такъ
нужное для… Для Россiи.
Если у Неонилы Львовны князь могъ пытаться врать,
здѣсь передъ этой вѣрой, передъ этою проникнутою молитвенною
ясностью прекрасною женщиною князь не зналъ, что ему дѣлать. Онъ низко
опустилъ голову. Густая краска покрыла загорѣлое въ частыхъ полетахъ лицо
и онъ едва слышно прошепталъ:
— Молитесь за него, Лидiя Петровна.
— Я знаю … Я молюсь, — словно тихiй шелестъ далекой
листвы донеслось до него. — Да благословитъ васъ Господь!
— Я не достоинъ … не достоинъ ни вашихъ
благословенiй, ни молитвъ, — быстро, страшно смутившись, сказалъ князь и, не
прощаясь съ Парчевской, поспѣшно вышелъ съ ея дачи.
Дѣлъ было много. Навѣстить было
нужно многихъ, надо было теперь раньше всего исполнить то, что было ему
приказано, а потомъ надо будетъ подумать, что же онъ надѣлалъ и какъ ему
себя покарать.
Только на другой день онъ могъ попасть къ
Пиксановымъ на ферму. Онъ мечталъ о, Галинѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ
хотѣлъ, чтобы ея не было. Не въ силахъ онъ былъ встрѣтить это
чистое существо, когда онъ сталъ тяжко виноватымъ … Безъ вины, безъ умысла, —
пытался онъ себя оправдать. Не выходило это оправданiе.
Онъ шелъ, низко опустивъ голову, по грязному,
размытому зимними дождями шоссе и все думалъ, что и какъ онъ долженъ
сдѣлать и съ Мишелемъ Строговымъ и съ собою. Не признаться ли во всемъ
полковнику Пиксанову? Открыть свой позоръ отцу той, кого назвалъ онъ
лѣтомъ, кому давалъ понять въ свои осеннiя посѣщенiя, что она
героиня … героиня его романа!
Онъ засталъ Пиксанова необычно озабоченнымъ.
Галины не было дома. Она была въ пансiонѣ. Пѣтухи, такъ дружно
встрѣтившiе его лѣтомъ, были перебиты и проданы. Куры были спрятаны
отъ холода и дождей въ куриныхъ домахъ въ глубинѣ фермы. На фермѣ
было тихо. Любовь Димитрiевна возилась у плиты. Дрова плохо разгорались. Въ
большой и полутемной комнатѣ было непрiютно, сыро и холодно. Кисло пахло
угаромъ. Любовь Димитрiевна была окручена шарфами и платками. На головѣ
была сѣрая шерстяная повязка. Любовь Димитрiевна мало напоминала изящную
жену гвардейскаго полковника. Князю Ардаганскому показалось, что она была суха
и нелюбезна съ нимъ. Онъ сжался и робко присѣлъ на стулъ. Очевидно, и
тутъ все знали. Пиксановъ сейчасъ же сѣлъ къ письменному маленькому
столику у зажженной коптящей керосиновой лампочки писать донесенiе капитану Немо.
Онъ ерошилъ густые волосы надъ блѣднымъ лбомъ и бормоталъ вполголоса:
— Отчего?.. почему такая злоба на Россiю?..
Какая логика поддерживать большевиковъ, которые стремятся уничтожить весь мiръ?
И опять строчилъ карандашомъ на большомъ блокѣ,
отрывалъ листокъ за листкомъ, потомъ молча, сосредоточенно нахмуривъ брови,
закладывалъ исписанные листы въ конвертъ и тщательно опечатывалъ его сургучною
печатью.
— Вотъ, князь, съ этимъ пакетомъ уже прямо, никуда
не заѣзжая … И, смотрите, не попадитесь большевикамъ … Это очень важно …
Въ добрыя старыя времена на этомъ пакетѣ надо было бы три креста
поставить, значитъ: — «скачи, лети стрѣлой», полнымъ карьеромъ … Ну да
вашъ конь еще быстролетнѣе … И, пожалуйста, не проболтайтесь … ибо
кругомъ рыщутъ …
— Да я, господинъ полковникъ, — началъ было
князь и точно поперхнулся.
— Знаю, знаю, милый мой Михако … Прекрасный вы
человѣкъ, да кругомъ то теперь слишкомъ много всякой продажной дряни
развелось. Такъ вотъ, скоро и вашъ поѣздъ … Катайте скорѣе и
берегите пакетъ, какъ зѣницу ока. На станцiю я васъ провожу.
Они шли вдвоемъ по размытому грязному шоссе,
мимо пустыхъ, черныхъ, мокрыхъ, печальныхъ полей. Вороны стаями срывались при
ихъ приближенiи съ зеленыхъ озимей и съ карканiемъ неслись сѣрой
сѣтью надъ ними. Зимнiй день былъ хмуръ и теменъ. Никого не было на ихъ
долгой дорогѣ. Такъ было теперь удобно все разсказать, во всемъ покаяться
и просить совѣта у Пиксанова, но князь Ардаганскiй молчалъ. Такъ, молча,
они и дошли до маленькой станцiи. Пиксановъ самъ выбралъ купе, куда садиться
князю.
— И въ совсѣмъ пустое не хорошо, —
бормоталъ онъ, — да надо, чтобы съ вами были порядочные люди.
— Вотъ сюда, князь, — сказалъ онъ, отворяя
дверь отдѣленiя, гдѣ сидѣла явно фермерская семья изъ двухъ
плотныхъ краснорожихъ мужчинъ, очень толстой, добродушнаго вида женщины и трехъ
дѣтей.
— Сюда уже никто къ вамъ не сядетъ въ
дорогѣ. Ну, храни васъ Богъ!
Князь еще долго видѣлъ тонкую и узкую
фигуру Пиксанова, стоявшаго на платформѣ. Необычно грустнымъ и встревоженнымъ
казался полковникъ князю и это еще больше увеличивало муки и угрызенiя
совѣсти Ардаганскаго.
XXVII.
Надъ Атлантическимъ океаномъ бушевала буря.
Она выла въ раздвижныхъ крыльяхъ аэроплана и летчикъ, часто убиралъ ихъ,
сокращая площадь и все увеличивая скорость полета. Беззвучно вращался пропеллеръ.
Въ кабинѣ было тепло. Мелкiя брызги летѣли на стекла и замерзали на
нихъ. Аппаратъ забиралъ вышину. Кипѣнiе волнъ внизу становилось, какъ
мутно зеленая шелковая матерiя, покрытая бѣлымъ кружевомъ пѣны.
Князь Ардаганскiй вторыя сутки неподвижно сидѣлъ въ креслѣ,
отдаваясь мучительнымъ думамъ.
«Подлецъ … предатель» … — бормоталъ онъ иногда
и не зналъ къ кому онъ это относитъ, къ себѣ или къ Мишелю Строгову.
Мишеля Строгова онъ ненавидѣлъ, какъ только можно ненавидѣть въ
девятнадцать лѣтъ, когда имѣешь чистое сердце и никогда и никому
еще не пожелалъ зла.
«Подлецъ … негодяй … Его убить мало … И я его
убью … Первымъ дѣломъ, какъ прилечу, убью» …
Князь Ардаганскiй отлично сознавалъ, что
никогда и никого онъ не убьетъ. Онъ и букашки никакой не могъ уничтожить. Онъ
вспоминалъ, какъ въ тихiй теплый вечеръ къ нимъ въ палатку залетѣла
голубая блестящая бабочка и какъ онъ ее бережно вынесъ подальше въ поле, чтобы
она не опалила крыльевъ о пламя свѣчи лампiона.
«Своими собственными руками задушу … Ахъ!,
негодяй!.. Или нѣтъ … Это неблагородно … Я ему скажу, я его назову
подлецомъ и вызову его на дуэль»..
И сейчасъ же точно видѣлъ передъ собою
узкое и плоское лицо Мишеля съ его странными глазами, необычно всегда
устремленными куда то вдаль и никогда не смотрящими въ глаза собесѣднику
и понималъ, что на дуэль вызвать Мишеля Строгова просто не придется.
Мишель этого не пойметъ. Онъ высмѣетъ и
«подлеца» и вызовъ на дуэль. Онъ «выше этого» …
«Ахъ, какая гадость … Побить его просто.
Разбить его наглую рожу …»
Передъ нимъ вставала широкая грудная
клѣтка тренирующагося борца, громадные бицепсы, которыми такъ любилъ передъ
всѣми хвастать Мишель и понималъ князь, что въ такомъ единоборствѣ
Мишель накладетъ ему «по первое число» …
«Да и кто виноватъ больше?.. Оиъ или я?.. Кто
передалъ письмо? Его надо было вскрыть и посмотрѣть, что тамъ написано и
можно ли такое везти въ Европу. Вскрыть и прочитать чужое письмо!.. Чужое письмо!..
Это все равно, что подслушивать у двсрей, что ворoвать … Нѣтъ … Это хуже
всякаго воровства».
«Я долженъ все сказать капитану Немо и просить
его о самой страшной казни» …
Ужасъ разбиралъ его. Да и зачѣмъ
говорить?.. He зналъ ли этотъ полный таинственности человѣкъ все и безъ
всякаго покаянiя. Какъ онъ поняль и узналъ Мишеля Строгова. He допустилъ его до
посылки въ Россiю. Говорить съ капитаномъ Немо казалось ужаснымъ. Такъ въ мучительномъ
горѣнiи совѣсти князь Ардаганскiй не замѣтилъ, какъ наступилъ
день и аэропланъ плавно и быстро, точно скользя съ крутой и безконечной горы, снизился
и опустился на точку на Россiйскомъ островѣ.
Было нестерпимо жарко. Буря проносившаяся надъ
океаномъ не смягчала зноя. Вѣтеръ дулъ точно изъ раскаленной доменной
печи. Россiйскiй флагъ игралъ съ вѣтромъ. Веревки далеко отдулись отъ
мачты. Вѣтеръ рвалъ и хлопалъ флагомъ.
Ноги дрожали у князя Ардаганскаго, когда онъ
поднимался на гору, за скалы базальта, на уступъ, гдѣ стоялъ соломенный
баракъ капитана Немо. Дремавшiй на крыльцѣ адъютантъ ротмистръ Шпаковскiй
принялъ пакетъ.
— Я бы хотѣлъ и лично видѣть
капитана Немо, — нерѣшительно сказалъ Ардаганскiй.
— Хорошо … Я потомъ доложу. Сейчасъ капитанъ у
Радiо … Ну, какъ веселились въ Парижѣ?..
— Гдѣ же веселиться? — уныло и вяло
сказаль Ардаганскiй, — я едва успѣлъ побывать у всѣхъ, къ кому
мнѣ было приказано зайти.
Слова не шли съ языка. Князю казалось, что и
Шпаковскiй все знаетъ и потому такъ и выспрашиваетъ его о Парижѣ.
— А у насъ, князь, вѣрите ли, что то
особенное творится. Вотъ всѣ эти пять дней, что васъ не было, полковникъ
Ложейниковъ насъ тревогами и ученьями замучилъ … Вѣрите ли вывозили на
море щиты изъ ящичныхъ досокъ и обстрѣливали ихъ … Точно десанта какого
то боимся … Изъ пушекъ Гочкиса стрѣльбу производили. Ну кто отъищетъ насъ
на этомъ Богомъ и людьми забытомъ острову?
Электрическiй звонокъ зазвонилъ на
верандѣ. Шпаковскiй вскочилъ съ пакетомъ.
— Такъ и о васъ доложить?.. Но, если, князь,
что личное и вообще неважное, можетъ быть, вы повременили бы? Не безпокойте
Ричарда Васильевича. Всѣ эти дни онъ что то необычно озабоченъ и,
вѣрите ли, даже точно и взволнованъ … Кто бы этому повѣрилъ?..
«Для меня это очень важно», — мелькнуло въ
головѣ Ардаганскаго, — «для дѣла?.. Не все ли равно? Это уже кончено.
Сплетня гуляетъ по Парижу … По всему мiру … Ее моимъ раскаянiемъ не остановить
… Зачѣмъ еще безпокоить этого таинственнаго человѣка, и безъ моего
покаянiя все про меня знающаго?».
Князь Ардаганскiй сказалъ и самъ удивился,
какъ это спокойно и натурально у него вышло, несмотря на внутреннюю душевную
бурю: —
— Да … Конечно … Обо мнѣ ничего не
докладывайте. Вернулся благополучно … И все … A то … To мое личное дѣло и
имъ теперь не надо безпокоить капитана Немо …
— Стосковались … Изнервничались, какъ и мы
всѣ, — быстро сказалъ Шпаковскiй и скрылся за дверьми кабинета капитана
Немо.
Князь Ардаганскiй медленно сталъ спускаться съ
горы. Вотъ, когда онъ почувствовалъ всю усталость полета и безсонныхъ ночей.
XXVIII.
Капитанъ Немо сильно измѣнился за это
время. Онъ исхудалъ, пересталъ бриться и холить лицо и обросъ бородою. Длинные,
на проборъ, сѣдые волосы его были тщательно расчесаны. Это опять былъ
ученый и труженикъ, не успѣвающiй слѣдить за собою, а не тотъ
снобирующiй инженеръ, который ковалъ деньги, имѣя одну цѣль —
спасенiе Россiи. Въ бѣлой просторной пижамѣ, онъ сидѣлъ у
Радiо-аппарата и слушалъ, что съ далекаго сѣвера ему докладывалъ Ранцевъ.
Молодымъ, былымъ задоромъ, тѣмъ восторгомъ творчества, какой былъ у
Ранцева, когда онъ скакалъ на Императорскiй призъ, когда собирался принимать
лихой четвертый эскадронъ, вѣяло отъ словъ Ранцева, и капитану Немо казалось,
что онъ видитъ передъ собою открытое лицо своего стариннаго друга, и его
честные сѣрые, немигающiе глаза, не опускаясь, смотрятъ на него.
— Шестнадцать пѣхотныхъ дивизiй и четыре
кавалерiйскiя бригады закончены формированiемъ. Двѣсти тысячъ
человѣкъ призваны подъ Императорскiя знамена. Вооружить поставками
Ольсоне мнѣ удалось пока только двѣ дивизiи. Но это меня ни мало не
смущаетъ. По мѣрѣ моего продвиженiя красноармейскiя части сдаются и
я за ихъ счетъ вооружу остальныя. Съ весною думаю спуститься на желѣзную
дорогу и, отгородившись заслономъ съ запада, развить операцiю на югъ и на
востокъ, гдѣ обстановка складывается необыкновенно благопрiятно. У меня
недостатокъ воздушнаго флота и это можетъ сорвать всѣ мои планы.
Территорiя, занятая мною громадна. Обслуживать ее тридцатью аэропланами,
имѣющимися въ моемъ распоряженiи, становится невозможно. Несмотря на ихъ
превосходство надъ аппаратами большевиковъ, они скоро не будутъ въ состоянiи
достаточно охранить мои формированiя, еще неокрѣпшiя и недостаточно
вооруженныя. Величина занятаго мною края заботитъ меня. Сотни путей ведутъ въ
него, и у меня не хватаетъ газовыхъ заставъ. Необходима присылка, и
незамедлительная, всего нашего воздушнаго флота, самого Аранова и профессора
Вундерлиха для устройства газовыхъ фабрикъ и аэропланныхъ заводовъ, къ чему
всѣ возможности здѣсь есть. Отъ работающихъ въ Россiи знаю, что и
тамъ все готово для удара … Насталъ часъ, когда ты долженъ прiѣхать къ
намъ и утвердить свою базу у насъ …
Мягкая и добрая улыбка появилась на лицѣ
Немо.
«Милый Петрикъ … Какъ узнаю я тебя!
Переѣхать къ вамъ … На чемъ? «Гекторъ» до весны стоитъ затертый во
льдахъ. У меня тридцать аэроплановъ. Я долженъ отправить на нихъ Аранова и
Вундерлиха съ ихъ лабораторiей, препаратами, чертежами и принадлежностями аэроплановъ.
Я долженъ отправить возможно большее количество минъ. При этихъ условiяхъ я
могу сажать на аэропланы только летчиковъ и механиковъ. Тридцать аэроплановъ
поднимутъ всего шестьдесятъ человѣкъ, пятьдесятъ пять должны остаться
здѣсь … И, конечно, я останусь съ ними».
Капитанъ Немо нажалъ пуговку электрическаго звонка.
Ротмистръ Шпаковскiй появился въ дверяхъ.
— Пожалуйте мнѣ пакетъ, привезенный
княземъ Ардаганскимъ.
Небольшимъ ножикомъ Немо вскрылъ конвертъ и сталъ
читать четко написанное письмо.
«Да, вотъ оно что!.. Впрочемъ, я это предвидѣлъ
… Я, правда, не думалъ, что это будетъ такъ скоро. Я думалъ — мнѣ дадутъ
проработать годъ … Всѣ мои разсчеты были на это … Но прошло всего семь
мѣсяцевъ и все открыто. Тайны нѣтъ … Проклятые болтуны!..».
…«Постановленiемъ
Лиги Нацiй», — читалъ капитанъ Немо, — «уничтоженiе Русской нацiональной базы
(она названа «бѣлобандитскимъ гнѣздомъ») возложено на Англiю, С. С.
С. Р. и Францiю. Послѣдняя, подъ давленiемъ общественнаго мнѣнiя,
которое все на нашей сторонѣ, въ виду бѣшено развитой газетной
кампанiи, не безъ участiя нашихъ эмигрантскихъ учрежденiй, нѣкоторое
время колебалась, потомъ согласилась предоставить свой развѣдочный
воздушный флотъ и одинъ броненосецъ. Готовится непобѣдимая армада, какъ
во времена великой Испанiи. Десятки гидроплановъ отправляются съ ихъ матками.
Шесть крейсеровъ и десятокъ подводныхъ лодокъ. Три дреднаута. Эскадры пойдутъ
изъ разныхъ портовъ и соединятся въ океанѣ. Ваше мѣстонахожденiе
точно извѣстно. О таинственномъ Россiйскомъ островѣ открыто болтаютъ
по парижскимъ ресторанамь. Статьи совѣтскихъ и здѣшннхъ соцiалистическихъ
газетъ полны призывами уничтожить «бѣлобандитское гнѣздо»,
мѣшающее дѣлу мира и общаго разоруженiя. Сожженiе банка въ
Берлинѣ и уничтоженiе банкировъ всполошило масонское гнѣздо.
Противъ васъ всѣ …»
«Ну что же … И буду со всѣми бороться» …
Мысль капитана Немо, привыкшая къ математическимъ
разсчетамъ и выкладкамъ, сейчасъ же послушно ему подчинилась, и онъ сталъ
думать, соображать и высчитывать.
«Тридцать моихъ аэроплановъ съ ихъ минными аппаратами
могутъ обратить всю эту армаду въ бѣгство. Я знаю ихъ … Они хотятъ
драться безъ потерь. Они идутъ на экзекуцiю, а не на войну. Когда я
подсѣку своими «Панпушко-лучами» ихъ аппараты, и они полетятъ огненными
языками въ океанъ, когда мои управляемыя воздушныя мины станутъ рваться на
корабляхъ, я увижу, чего они стоятъ … He въ силѣ Богъ, а въ правдѣ
… Воюютъ не числомъ, а умѣньемъ …».
Капитанъ Немо всталъ отъ стола и, гордо
поднявъ голову, прошелся по кабинету. Ноздри были раздуты, лобъ напряженно наморщенъ.
Глаза горѣли внутреннимъ пламенемъ.
«Посмотримъ … Они придутъ сюда … Когда?.. He
такъ скоро … А какъ же это время Ранцевъ? Если я задержу свой флотъ и минные
аппараты, и въ концѣ концовъ многое потеряю, потому что на войнѣ не
безъ урона, а драться мои будутъ, не щадя себя, что будетъ съ Ранцевскими
отрядами? Я никогда не думалъ … Я не предвидѣлъ, что это можетъ быть такъ
… что ударъ будетъ одновременно занесенъ и тутъ, и тамъ … И чѣмъ то
теперь я долженъ пожертвовать …»
Капитанъ Немо остановился у окна. Широкiй видъ
на океанъ открывался передъ нимъ. Его взоръ, казалось, проникалъ за небосводъ.
Онъ видѣлъ далекiй сѣверъ, гдѣ шестнадцать Русскихъ дивизiй и
четыре бригады ждали его помощи. Онъ опять точно увидалъ открытое честное лицо
своего друга, помощника и замѣстителя.
Онъ потеръ лобъ.
«Въ современныхъ демократическихъ государствахъ,
гдѣ правятъ партiи, то есть часть, принято цѣлымъ жертвовать ради
части. Жертвовать государствомъ ради партiи … Я — математикъ … Цѣлое для
меня всегда больше части. Мое цѣлое уже тамъ … Здѣсь часть. Съ
организацiей армiи въ Россiи оканчивается моя роль на островѣ. Тамъ
главное, у меня вспомогательное …».
Капитанъ Немо снова сталъ ходить по кабинету.
Все надо было продумать, ничего не упустить.
«Завтра … Да … Завтра же я отправляю всѣ
аппараты къ Ранцеву … Здѣсь останусь я и тѣ, кто не можетъ быть
сейчасъ вывезенъ … He на чемъ. Пятьдесятъ пять человѣкъ … Когда подойдутъ
эти громадные флоты, они могутъ вывѣсить бѣлый флагъ … Сдаться …
Они … He я … Я могу уйти совсѣмъ и навсегда, исполнивъ до конца свой
долгъ. Капитана Немо никто не можетъ и не долженъ допрашивать и ему нельзя
предстать передъ большевицкимъ революцiоннымъ трибуналомъ …».
«Ha какомъ основанiи союзный флотъ будетъ
стрѣлять по Русскому флагу?.. Здѣсь просто Русская колонiя.
Нѣмцы?.. Да, они въ войнѣ съ Россiей, ибо Брестскiй миръ заключала
не Россiя, а враги Россiи — большевики … Англiя и Францiя?.. Имъ измѣнили
и предали ихъ въ тяжелый годъ войны большевики, а не Русскiе … Подъ краснымъ, а
не подъ Русскимъ флагомъ прошло это предательство …»
«Ужели спустимъ Русскiй флагъ и замѣнимъ
бѣлой простыней … Ахъ, да … банкиры. За банкировъ будутъ драться солдаты
и матросы разныхъ государствъ и совѣтскiе въ томъ числѣ … Можетъ
быть, тогда я и правда погорячился … He слѣдовало ихъ трогать …».
Онъ опять сталъ ходить по кабинету и упорно
думать. Рѣшенiе складывалось въ его умѣ. Въ немъ не было
мѣста для компромисса.
«Вопросъ о сдачѣ меня не касается. Это
ихъ дѣло. Тѣхъ, кто слѣпо мнѣ довѣрился, кто
пошелъ за мною. Мое рѣшенiе постановлено. Я не сдаюсь. А тѣ? Какъ
хотятъ … Какъ имъ будетъ угодно … Бываютъ случаи, когда солдаты командуютъ
собою … Но вопросъ о томъ, кто — Россiйскiй островъ, или Россiя? рѣшаю я
— ихъ главнокомандующiй. Завтра аэропланы летятъ … въ Россiю. Кажется и буря
стихаетъ. Здѣсь всегда такъ … Внезапно встанетъ и такъ же внезапно и
стрiхнетъ … Можетъ быть … и тамъ стихнетъ … Отдумаютъ. И чаша сiя меня минетъ …».
Капитанъ Немо смѣлыми, твердыми шагами
вышелъ на веранду барака. Ротмистръ Шпаковскiй, сидѣвшiй съ книгой въ
рукахъ въ соломенномъ креслѣ, вытянулся передъ Немо.
— Вотъ, что, милый Александръ Антоновичъ, попросите
ко мнѣ сейчасъ Аранова, профессора Вундерлиха и начальника минеровъ.
— Слушаюсь.
Ротмистръ Шпаковскiй четко повернулся кругомъ и
побѣжалъ по тропинкѣ къ баракамъ технической части.
Капитанъ Немо долго слѣдилъ за нимъ
глазами. Буря утихла. Воздухъ былъ недвиженъ. Разбушевавшiйся океанъ съ ревомъ
шелъ громадными валами на островъ и, казалось, островъ потрясался подъ ударами
бѣлогребенныхъ волнъ.
XXIX.
Со сторожевого поста, стоявшаго на
сѣверовосточной части острова капитану Немо донесли: — «летятъ
аэропланы».
Солнце спускалось къ западу.
Двѣнадцатичасовой экваторiальный день приходилъ къ концу. На
востокѣ море сливалось съ небомъ. Тамъ океанъ и небо были темнозелеными и
каждое мгновенiе мѣняли окраску. Волны синѣли, становились
фiолетовыми, какъ прозрачный аметистъ. Ровный покойный предвечернiй
вѣтеръ мягко, точно ласкаясь, развернулъ на мачтѣ Русскiй флагъ.
Аэроплановъ еще не было видно. Но ровнымъ гуломъ гудѣли пропеллеры.
«Да, вотъ это ихъ всегда и выдаетъ», —
подумалъ капитанъ Немо и приложилъ къ глазамъ бинокль.
Пять небольшихъ, военныхъ, развѣдочныхъ
гидроплановъ, какъ гуси, летѣли широкимъ угломъ — «станицей». Впереди
одинъ, за нимъ два и дальше, едва виднѣлись еще два. Они держали курсъ
мимо, но должно быть по бѣлой пѣнѣ прибоя, разглядѣли
островъ и повернули на него.
Шумъ машинъ сталъ громокъ и надоѣдливъ.
Стали видны блестящiя аллюминiевыя тѣла гидроплановъ, ихъ широкiя крылья
и отличительные знаки на нихъ. «Французы … Лучшiе летчики въ мiрѣ и
лучшiе аппараты … Пусть посмотрятъ … Можетъ быть кто нибудь изъ тѣхъ, кто
когда то со мною работалъ», — подумалъ капитанъ Немо.
Гидропланы на большой высотѣ, не
снижаясь, пролетѣли надъ островомъ, сдѣлали плавный полукругъ и
полетѣли на востокъ. Значитъ, гдѣ то не такъ далеко,
долженъ быть и флотъ.
Mope темнѣло. На западѣ верхушки
волнъ плескали золотомъ. Длинная тѣнь отъ горы легла на океанъ. На
зеленой площадкѣ, гдѣ бѣлымъ, ровнымъ рядомъ стояли палатки,
горнистъ проигралъ повѣстку къ зарѣ. Полурота въ тропическихъ
костюмахъ и шлемахъ проворно выстраивалась на линейкѣ.
Капитанъ Немо спустился къ лагерю и пошелъ къ
строю. Онъ появлялся передъ людьми своего отряда только въ исключительныхъ случаяхъ.
Все шло по всегдашнему воинскому росписанiю.
Фельдфебель, рослый пулеметчикъ Мордашовъ, вызывалъ людей по перекличкѣ.
— Агафошкинъ 1-й … Агафошкинъ 2-й … Ардаганскiй
… Бычковъ … Ветлугинъ …
— Я … я … я, — неслось отъ шеренгъ.
Между причудливыхъ кактусовъ, отъ кухонь, подымался
сизый дымокъ. Вкусно и мирно пахло борщемъ.
Пропѣли молитвы. Горнистъ заигралъ зорю.
Медленно сталъ опускаться на мачтѣ флагъ. Полурота пѣла гимнъ.
Дежурный подошелъ съ рапортомъ къ суровому, стройному, выправлелному Ложейникову,
тотъ выслушалъ рапортъ и пошелъ, тщательно маршируя къ капитану Немо. Все было
«какъ въ Красномъ Селѣ», какъ заповѣдалъ Ранцевъ.
— Ричардъ Васильевичъ, — докладывалъ, держа руку
у шлема, Ложейниковъ вытянувшемуся передъ нимъ капитану Немо, — въ
лагерѣ, на Россiйскомъ острову, въ теченiе дня происшествiй не случилось.
Безъ четверти, въ восемнадцать часовъ надъ островомъ, съ сѣверо-востока
пролетѣло пять французскихъ гидроплановъ, повернули на востокъ и скрылись
за горизонтомъ. Люди на перекличкѣ были всѣ.
Капитанъ Немо выслушалъ рапортъ и въ какомъ то
раздумьи, глядя вдаль, точно сквозь строй полуроты, подошелъ къ своимъ соратникамъ.
Онъ остановился, собираясь съ духомъ, и началъ говорить. Онъ говорилъ сначала
медленно и не громко, потомъ съ силою и твердо: —
— Изъ устной газеты … Изъ докладовъ Николая Семеновича
Ложейникова вы знаете о томъ, что происходитъ въ Россiи. Большая ея часть …
Весь сѣверъ … свободна отъ большевиковъ и защищается Императорской армiей,
созданной вашимъ начальникомъ, Петромъ Сергѣевичемъ Ранцевымъ … Въ
интересахъ обороны этой Русской территорiи я долженъ былъ отправить ему весь
нашъ воздушный флотъ, минные аппараты и газовую оборону. Этого требовалъ нашъ
долгъ передъ Родиной … На насъ идетъ флотъ державъ, помогающихъ большевикамъ …
Насъ мало … Но мы можемъ защищаться и … во всякомъ случаѣ умереть со
славою и честью …
Капитанъ Немо остановился и внимательно смотрѣлъ
на стоявшихъ передъ нимъ людей. Строй былъ неподвиженъ. Казалось, люди не
дышали.
Твердо, не мигая, смотрѣлъ сѣрыми
притушенными тяжелыми опухшими красными вѣками глазами старикъ
Агафошкинъ. Его внукъ Фирсъ «ѣлъ» глазами капитана Немо. У молодого,
румянаго князя Ардаганскаго слеза застыла въ рѣсницахъ и все выраженiе
его лица было полно такого жертвеннаго порыва, что капитану Немо страшно стало.
Мишель Строговъ низко опустилъ голову и глядѣлъ изподлобья, какъ быкъ,
собиряющiй бодать.
— Я разсчитывалъ, — медленно, въ наступавшiй
сумракъ, — солнце уже сѣло, — ронялъ слова капитанъ Немо, — что до весны
никто не узнаетъ, гдѣ мы находимся. Весною долженъ былъ прибыть за нами
«Гекторъ» и мы отправились бы на немъ въ Россiю … Богъ не судилъ этого. «Гекторъ»
во льдахъ. Наше мѣстопребыванiе извѣстно … Намъ предстоитъ бой … и
смерть … или.. это вполнѣ на ваше рѣшенiе … Я разрѣшаю завтра,
когда покажется солнце, вмѣсто нашего родного Русскаго флага, поднять
бѣлый … Флагъ сдачи.
Капитанъ Немо поклонился строю и быстрыми,
твердыми шагами пошелъ мимо палатокъ и сталъ по тропинкѣ подниматься на
гору. Шпаковскiй шелъ въ четырехъ шагахъ за нимъ. Полурота стояла, какъ окаменѣлая.
Ни одинъ вздохъ не раздался изъ ея рядовъ. Пятьдесятъ пять паръ глазъ
слѣдили, какъ таяли въ прозрачномъ сумракѣ двѣ удаляющiяся
бѣлыя фигуры, какъ исчезли онѣ за кактусами и алоэ, точно растворились
въ ночи. На вершинѣ, въ окнахъ барака капитана Немо, загорѣлись
огни.
— Господа, — сказалъ полковникъ Ложейниковъ, —обсуждать
намъ нечего … Мы солдаты … Мы свой долгъ исполнимъ … Русскаго имени не
посрамимъ … Разойтись по палаткамъ!..
XXX.
Маленькая палатка Нифонта Ивановича стояла возлѣ
кухонь. Въ ней сидѣли самъ хозяинъ и подружившiйся съ нимъ урядникъ
Тпрунько. Люди давно отъужинали. Въ лагерѣ стояла мертвая тишина.
Нигдѣ въ палаткахъ не было огней.
Яркiя звѣзды легли алмазнымъ узоромъ по
темно-синей небесной парчѣ. Внизу глухо и мѣрно билъ прибой. Океанъ
отражалъ звѣздное блистанiе и струился свѣтящимися нитями. Ровный и
теплый вѣтеръ подувалъ надъ островомъ. Было таинственно, несказанно
красиво и чудно въ Божьемъ мiрѣ. И разговоръ былъ необычный, полный
тайны, вѣры другъ въ друга и велся онъ тихими задушевными голосами.
— Ось, Михайло Строговъ, — внушительно, хриплымъ
баскомъ говорилъ Тпрунько, — заготовляе бiлый флагъ … Я знаю … Бачивъ … Ихъ у
палаткi пять душъ собралось, и Михайла вашъ за коновода … Не дать, значе, поднять
Русскаго флага и шобъ сдаться. Ось, что замышляе!.. Я знаю … Бачивъ …
— За то знамя наши отцы и дѣды умирали.
— Я за тожъ и кажу, Нифонтъ Ивановичъ.
— Опять — сдаться?.. Это значитъ опять чужой
хлѣбъ жевать?.. Опять въ бѣженцы писаться?.. Да умереть куды слаже
…
— Я за тожъ и кажу, Нифонтъ Ивановичъ. Якъ же
вы служили Государю Императору?..
— Я то?.. То есть, какъ я служилъ?.. Я полный
бантъ имѣлъ, во какъ я служилъ … Подхорунжимъ я былъ въ своемъ полку. Я
на защитѣ Дона до конца стоялъ, и кабы не начальство, никогда бы никуда
не ушелъ … Такъ тамъ и померъ бы на родной то есть землѣ …
— Та-акъ … Вы чулы, якъ полковникъ казавъ на
перекличкѣ. «Сполнимъ свой долгъ» … Нашъ долгъ есть што? … Оборонить свое
знамя и при емъ умереть.
— Ну-къ что-жъ. Я васъ въ полной
мѣрѣ уважаю.
— За то и разговоръ, Нифонтъ Ивановичъ. Вы мой
пидпомошникъ … И начальство указало … И то нашъ козацкiй долгъ … Понялы?
— Учить меня не приходится. Съ
малолѣтства въ станицѣ отцомъ достаточно ученъ, что значитъ: — за
вѣру, Царя и отечество … To есть сладкая смерть … Славою и честiю
вѣнчанная.
— Я за то и кажу, Нифонтъ Ивановичъ … Бувайте
здоровеньки.
— Спокойной ночи.
Внизу глухо шумѣлъ океанъ. Темные валы
непрерывною чередою наступали на берегъ, опѣнивались блестящей чертою и
съ мягкимъ шипѣнiемъ разсыпались вдоль берега. Ярко блистали на
небѣ безчисленныя, незнаемыя звѣзды. Творили свою ночную работу,
полную небесной тайны. Казались они поднимавшемуся на гору уряднику Тпрунькѣ
неласковыми и будто враждебными. He такiя онѣ были на Кубани. Чернымъ
горбомъ вдавалась въ море гора съ ея причудливыми скалами и съ конусообразной
вершиной.
Все было не «наше», все было чужое и страшное.
Тпрунька остановился, досталъ кисетъ съ табакомъ, раскурилъ трубку и сказалъ
про себя: —
— Ну, однако, никто, какъ Богъ. На все Его
святая воля …
XXXI.
Быстрый разсвѣтъ наступалъ. Звѣзды
погасали. Небо казалось сѣрымъ. Капитанъ Немо вышелъ на веранду барака.
Онъ прислушался. Наверху, гдѣ была мачта и гдѣ никакихъ работъ не
производилось мѣрно стучалъ молотокъ. «Тукъ, тукъ, тукъ». Замолчитъ,
перестанетъ и опять: — «тукъ, тукъ, тукъ» …
Шпаковскiй, спавшiй одѣтымъ въ длинномъ
соломенномъ креслѣ вскочилъ передъ капитаномъ Немо.
— Что это тамъ, Александръ Антоновичъ?
— He могу знать, Ричардъ Васильевичъ. Сейчасъ пойду
посмотрю.
— Пойдемъ вмѣстѣ.
Они спустились съ веранды и по узкой
тропинкѣ, вившейся между миртовыхъ кустовъ и безобразныхъ мясистыхъ кактусовъ
и алоэ стали подниматься къ
мачтѣ.
Свѣтало. На востокѣ океанъ
покрылся бѣлесой пеленой. Небо надъ нимь розовѣло.
Съ послѣдняго поворота тропинки стала
ясно видна вершина горы. Сѣдой бородатый казакъ взобрался на бѣлый
столбъ мачты и, придерживая колѣномъ большой Русскiй флагъ, тщательно
прибивалъ его гвоздями. Черезъ плечо у него была надѣта холщевая сумка съ
инструментомъ. Другой старикъ въ ветхой изорванной черкескѣ стоялъ подъ
нимъ и озабоченнымъ голосомъ давалъ указанiя.
— Вы, Мифонтъ Ивановичъ, кромку дѣлайте
больше, а гвозди бейте почаще, какъ на знаменахъ били, a то кабы вѣтеръ
не порвалъ до времени.
— Я и то гвоздь къ гвоздю. Никогда тебѣ
не порветъ … Какая бы буря ни была все устоитъ.
Капитанъ Немо остановился за кустами и
смотрѣлъ на стариковъ. Тихая улыбка появилась на его всегда серьезномъ
лицѣ. Теплый токъ пошелъ отъ сердца къ глазамъ — и — вотъ еще мгновенiе —
и не удержитъ онъ благодатныхъ слезъ. Никогда въ дни лучшихъ своихъ
изобрѣтенiй и громкихъ успѣховъ, ни даже въ тотъ день, когда
Государь Императоръ произвелъ его въ первый офицерскiй чинъ, ни тогда, когда
онъ уже въ зенитѣ своей славы представлялся Государю, ни тогда, когда
внезапно почувствовалъ, что онъ полюбилъ запоздалою первою любовью дочь своего
лучшаго друга — не испытывалъ капитанъ Немо такого блаженнаго свѣтлаго и
радостнаго чувства, какъ въ эти минуты разсвѣта на чужомъ острову, когда
скрытый кустами онъ наблюдалъ эту работу казаковъ.
Звѣзды погасли. Только одна на
западѣ горѣла свѣтлымъ фонарикомъ на зеленомъ небѣ.
Предразсвѣтный вѣтеръ озабоченно задулъ надъ горою. На
востокѣ ярче разгоралась золотая полоса восхода. Внизу на линейкѣ
горнистъ трубилъ повѣстку къ зарѣ.
Опустившiй было въ сладкомъ раздумьи голову
капитанъ Немо поднялъ ее. Старый казакъ забилъ послѣднiй гвоздь и
отпустилъ прижатый колѣномъ конецъ флага. Въ тотъ же мигъ первый
солнечный лучъ ослѣпительно заигралъ на горѣ. Въ его огневомъ
сiянiи во всю ширину развернулся большой, несказанно прекрасный флагъ Родины …
Немо сталъ спускаться. Онъ не хотѣлъ,
чтобы казаки его увидали. На его лицѣ все играла та же счастливая улыбка.
Сердце сладостно замирало отъ восторга сознанiя, что честь и долгъ не пустыя
слова.
XXXII.
Въ полдень на горизонтѣ показались
черные дымы. На островѣ пробили боевую тревогу. Союзная эскадра шла къ
Россiйскому острову.
Часовъ около четырехъ корабли развернулись въ
океанѣ и стали на якорь. На большомъ Англiйскомъ дредноутѣ, должно
быть, адмиральскомъ кораблѣ длинной вереницей затрепетали сигнальные
флаги.
Сигнальщикъ морякъ прочелъ: — «требовали сдачи
и спуска поднятаго на островѣ флага».
Русскiй флагъ весело и дерзко игралъ на
вѣтру. Съ грязнаго, сѣраго корабля, бывшаго подъ краснымъ флагомъ
спустили моторную шлюпку. Она буксировала вельботъ и шла съ бѣлымъ
кормовымъ флагомъ: — переговорщики.
Полковникъ Ложейниковъ съ ротмистромъ Шпаковскимъ
вышли имъ навстрѣчу.
Вельботъ на веслахъ подошелъ къ берегу и выбросился
на мелкое мѣсто. Изъ него выскочили люди въ бѣлыхъ матроскахъ и съ
ними человѣкъ въ просторной тропической пижамѣ. Матросскiя
безкозырки съ алыми ленточками были небрежно по бабьи надѣты на стриженыя
головы матросовъ. Вооруженные винтовками съ примкнутыми штыками матросы, держа
ружья на перевѣсъ окружили человѣка въ бѣлой пижамѣ и
несмѣло пошли навстрѣчу полковнику Ложейникову.
— Кто вы такiе и что вамъ угодно? — спросилъ
Ложейниковъ.
— Я есть комиссаръ дредноута краснаго
совѣтскаго флота «Роза Люксембургъ» и присланъ отъ командующаго союзной
эскадрой адмирала Флислинга съ требованiемъ сдачи острова, немедленнаго спуска
бѣло-гвардейскаго флага и перехода всѣхъ обитателей острова на суда
эскадры.
— Передайте адмиралу Флислингу, что ему должно
быть хорошо извѣстно, что надъ островомъ не бѣло-гвардейскiй флагъ,
но Россiйскiй флагъ. Онъ поднятъ надъ Русскимъ островомъ, принадлежащимъ Россiи
и Россiя не состоитъ въ войнѣ съ Англiей.
— Это есть требованiе союзниковъ.
— Я его не исполняю.
— Вы знаете! … Вы знаете! … Вы видите, что
насъ … Видите сколько насъ … Я могу васъ сейчасъ схватить и увезти, какъ
трофей.
— Попробуйте.
Полковникъ Ложейниковъ поднялъ руку и изъ
всѣхъ глубокихъ окоповъ, нарытыхъ вдоль берега показались бѣлые
шлемы охранной роты. Пулеметныя бойницы открылись, пушки Гочкиса вытянули свои
длинныя тѣла. И можетъ быть и еще что показалось за скалами. Краснофлотцы
шарахнулись въ воду. Комиссаръ растерянно снялъ шляпу и стоялъ передъ Ложейниковымъ,
ожидая что будетъ дальше.
— Передайте адмиралу Флислингу, что я ожидалъ
отъ его кораблей салюта тому государству, которое сражалось бокъ о бокъ съ нимъ
во время великой войны и не измѣнило слову, данному союзникамъ. И
скажите, что на его салютъ батареи острова отвѣтили бы соотвѣтствующимъ
салютомъ, какъ того требуетъ международный кодексъ вѣжливости.
— Это уже будетъ другой салютъ, — съ угрозой
въ голосѣ пробормоталъ оправившiйся отъ испуга комиссаръ. — Товарищи, —
обернулся онъ къ краснофлотцамъ. — Намъ здѣсь совсѣмъ даже нечего
дѣлать.
Забавно задирая колѣна отъ побѣжалъ
по водѣ, все оглядываясь назадъ, впрыгнулъ въ вельботъ и замахалъ шляпой,
чтобы матросы скорѣе отваливали. Моторный катеръ принялъ носовой фалень и
потащилъ вельботъ къ эскадрѣ.
Переговоры были кончены.
XXXIII.
Всю ночь лучи прожекторовъ бродили по острову,
освѣщая его. Въ ихъ свѣтѣ гордо рѣялъ на ночномъ
вѣтру Русскiй флагъ.
На адмиральскомъ кораблѣ шло
совѣщанiе. Весь командный составъ эскадры, адмиралы и офицеры, украшенные
боевыми орденами и медалями за подвиги, совершенные въ великую войну, единогласно
постановили, что островъ ничтожная величина, и не стоитъ открывать по нему огонь
мощныхъ корабельныхъ батарей. Бороться съ Русскими Донъ Кихотами не входитъ въ
планы великихъ державъ, a по всему видно, что тутъ собрались фанатики Русскаго
дѣла, заядлые «бѣлогвардейцы», не желающiе мириться съ
очевидностью. Въ томъ, что надъ островомъ развѣвается Русскiй флагъ —
бѣды большой нѣтъ. Ходятъ же съ этимъ старымъ Русскимъ флагомъ, съ этимъ
«бывшимъ» Русскимъ флагомъ, « anciens combattants » возжигать пламя на
могилѣ неизвѣстнаго солдата въ Парижѣ и ходятъ съ
вѣдома и разрѣшенiя Правительства Республики, Островъ слишкомъ
малъ, чтобы онъ могъ служитъ базой повсемѣстнаго Русскаго возстанiя.
Нигдѣ на острову не видно ни фабрикъ, ни заводовъ, да и какъ могутъ они
быть, откуда они получали бы сырье, гдѣ тотъ тоннажь, который перевозилъ
бы все это въ Россiю? Все казалось раздутымъ и не стоющимъ вниманiя.
— Это Россiйскiе Донъ Кихоты, — говорилъ французскiй
адмиралъ де-Периньи, командовавшiй воздушнымъ флотомъ. — Оставьте этимъ
несчастнымъ людямъ маленькое утѣшенiе въ ихъ бѣдственной и
безрадостной судьбѣ. Мое, господа, мнѣнiе, мы можемъ донести нашимъ
правительствомъ, что мы были введены въ заблужденiе. Для Европейскаго мира
нѣтъ никакой опасности въ существованiи крошечной кучки фанатично
настроенныхъ Русскихъ эмигрантовъ, живущихъ подъ своимъ флагомъ.
Краснофлотскiе командиры тупо молчали. Съ темными
отъ смущенiя лицами, опустивъ головы, они не очень хорошо себя чувствовали подъ
перекрестнымй насмѣшливыми взглядами англiйскихъ и французскихъ моряковъ.
Они были подавлены. Казалось, что то похожее на совѣсть пробуждалось въ
ихъ душахъ. Этотъ бѣло - сине - красный флагъ, увидѣнный ими сегодня
на вершинѣ потухшаго вулкана напомнилъ имъ какiя то иныя времена, когда
никому и въ голову не пришло бы смотрѣть на Русскаго морского офицера со
снисходительной насмѣшкой.
Доблесть маленькой кучки людей, отказавшихся
исполнить приказъ могущественной союзной эскадры невольно подкупала.
Комиссаръ совѣтскаго флота попросилъ
слова. Собственно говорить было не о чемъ: — рѣшенiе было постановлено,
но отказать человѣку, являвшемуся фактически начальникомъ
совѣтскаго флота, передъ кѣмъ трепетали краснофлотскiе командиры
сочли неудобнымъ и слово было ему предоставлено. Человѣкъ, небрежно одѣтый
въ неопрятную бѣлую пижаму, безъ воротничка на рубашкѣ и галстуха,
плохо бритый, съ синевою на верхней губѣ и по щекамъ всталъ со своего
мѣста и сталъ говорить. Въ дни своей молодости, укрываясь отъ воинской
повинности, а потомъ отъ войны, онъ эмигрировалъ въ Америку, служилъ тамъ
помощникомъ провизора въ маленькой жидовской аптекѣ и научился говорить
по-англiйски жаргономъ рабочихъ кварталовъ Нью-Iорка. Его ужасный англiйскiй
языкъ звучалъ въ каютѣ полтора часа. Онъ бралъ изморомъ. Это была обыкновенная
митинговая рѣчь, совершенно неумѣстная передъ англiйскими и
французскими морскими офицерами. Онъ старался доказать, что островъ
совсѣмъ не такая невинная и безопасная для мира вещь, какъ то кажется
союзнымъ адмираламъ.
— Товарищи, — восклицалъ онъ, и это названiе
коробило офицеровъ. — Товарищи, тамъ есть пулеметы, я ихъ самъ видалъ, ужасъ
сколько пулеметовъ … Ну и тамъ, знаете, пушки … И кто знаетъ какiя тамъ пушки …
И чѣмъ онѣ стрѣляютъ. Тамъ могутъ быть, знаете, аэропланы,
сотни, даже тысячи аэроплановъ … Миллiоны особыхъ аэроплановъ — это вѣдь
тотъ же тоннажъ. Это лучше тоннажа …
— Наши летчики, — перебилъ краснорѣчiе
комиссара адмиралъ де-Периньи, — никакихъ аэроплановъ на острову не видали.
— Товарищъ адмиралъ … Господинъ адмиралъ, вы
понятiя не имѣете, что это за люди … Они могли такъ укрыть свои
аэропланы, что ихъ никакъ нельзя было увидать. Здѣсь, господа,
здѣсь, товарищи, сѣмена милитаризмы, никакой европейскiй миръ,
никакое разоруженiе невозможны, пока существуютъ эти люди, пока совершенно не сокрушена
гидра контръ-революцiи … Я опредѣленно доказываю, что здѣсь ея
гнѣздо … Это фактъ. Тутъ самая ея голова, ея мозгъ … Наша обязанность
передъ цѣлымъ культурнымъ мiромъ камнемъ раздробить эту голову … Сто
головъ этой ужасной бѣлогвардейской гидры. Народы всего мiра не могутъ
спокойно спать отъ присутствiя этой гидры … Отъ нея кризисъ, отъ нея
безработица, она питаетъ самыя гнусныя вожделѣнiя монархистовъ всего мiра
… Лига Нацiй намъ поручила ее уничтожить … Исполнимъ свой долгъ передъ Лигой
Нацiй …
Его слушали со скукою, едва подавляя
зѣвоту. Слушали изъ европейской вѣжливости, какъ слушаютъ въ
Женевѣ, въ Лигѣ Нацiй болтовню Литвинова. Слушаютъ потому, что не
могутъ допустить, чтобы мошенникъ пробрался въ высокое собранiе, и разъ
человѣкъ находится въ ихъ обществѣ, какой онъ ни будь — его
приходится считать порядочнымъ человѣкомъ.
Наконецъ, онъ кончилъ. Онъ долженъ былъ кончить,
потому что какъ ни былъ онъ мало чутокъ и какъ ни упоенъ своимъ
краснорѣчiемъ, но и онъ понялъ, что злоупотреблять дольше имъ нельзя.
Адмиралъ Флислингъ, пятидесятилѣтнiй
полчый человѣкъ съ краснымъ, бритымъ лицомъ и маленькими пухлыми
совсѣмъ дѣтскими губами свѣжаго красиваго рта, не глядя на
комиссара, сказалъ, обращаясь къ капитанамъ союзныхъ кораблей:
— Завтра я полагаю отправить моего флагъ
офицера къ этимъ мужественнымъ людямъ, чтобы еще разъ поговорить съ ними и
убѣдить ихъ сдаться и перейти къ намъ на суда.
— А, если не согласятся ?— быстро спросилъ адмиралъ
де-Периньи, загорѣлый, сухощавый морякъ сь классической французской
бородкой временъ Наполеона III и Алжирскихъ побѣдъ.
— Не согласятся, ну и Богъ съ ними, — спокойно
сказалъ Флислингъ. — Снимемся съ якоря и уйдемъ. Можемъ наблюдать за ними
посылкой перiодически судовъ и гидроплановъ. Смѣшно говорить о томъ, что
эта маленькая группа Русскихъ патрiотовъ можетъ быть опасна для мiра.
— Но это же никакъ невозможно, — въ сильномъ
возбужденiи воскликнулъ комиссаръ. — Это же пощечина трудовому народу всего
мiра. Это оскорбленiе пролетарiата, довѣрившаго судьбы свои демократiямъ
великихъ державъ. Рабочiе Англiи и Францiи, когда узнаютъ о такомъ
рѣшенiи, объявятъ забастовки. Будутъ повсемѣстныя возстанiя. Это же
будетъ покровительство тѣмъ, кто борется съ пролетарiатомъ совѣтскихъ
республикъ, это интервенцiя въ совѣтскiя дѣла, это та же голодная
блокада, это повторенiе временъ Колчака и Деникина, ошибокъ, за которыя
пришлось такъ дорого заплатить.
Его рѣчь становилась все
страстнѣе, онъ сталъ сыпать тирадами изъ коммунистическаго катехизиса. Рядомъ
съ адмиральской каютой въ каютъ компанiи стюарты гремѣли посудой,
накрывая къ ужину. Флислингъ, багрово покраснѣвъ пухлыми щеками, перебилъ
комиссара.
— Мнѣ кажется, ваше краснорѣчiе
тутъ совершенно неумѣстно, — сказалъ онъ, повышая голосъ, — упоминанiе о
Колчакѣ и Деникинѣ напрасно. — Флислингъ еще болѣе
покраснѣлъ. Онъ терялся, какъ остаться джентльменомъ, имѣя
дѣло съ такимъ человѣкомъ, какъ этотъ наглый совѣтскiй
комиссаръ. Онъ обвелъ глазами старшихъ англiйскихъ и французскихъ офицеровъ.
Онъ искалъ у нихъ поддержки и одобренiя своимъ поступкамъ. — Мнѣ
думается, — внушительно сказалъ онъ, — что я правильно выражу наше общее
мнѣнiе: — вы согласны со мною. Мы, чортъ возьми, въ большинствѣ, —
все болѣе и болѣе накаливаясь, раздражаясь и краснѣя
воскликнулъ Флислингъ, — уважать наше мнѣнiе вы обязаны.
Англiйскiе и французскiе офицеры молча встали
и поклонились адмиралу. Одни краснофлотцы продолжали сидѣть, низко
опустивъ головы. Комиссаръ вскочилъ съ привинченнаго къ полу круглаго кожанаго
кресла и, уже не сдерживаясь, закричалъ:
— Это, товарищи … Это же измѣна
дѣлу рабочихъ и вообще … Это же предательство трудового народа и
демократiй … Это ударъ въ спину дѣлу мира.
Онъ съ гнѣвомъ топнулъ ногою по мягкому
ковру и выскочилъ изъ каюты. За нимъ сконфуженною гурьбою, какъ побитыя собаки,
нагадившiя въ комнатѣ, стали выходить и краснофлотцы.
— Господа, — сказалъ Флислингъ, — какъ будто
воздухъ сталъ чище. Откройте еще шире иллюминаторы. Надо еще провѣтрить …
Одиннадцатый часъ, однако. Пять часовъ потеряли на пустую болтовню и лекціи Марксизма.
Пожалуйте, господа, ужинать …
XXXIV.
Въ два часа ночи флагъ офицеровъ адмирала Флислинга
доложилъ ему, что матросы на корабляхъ волнуются. Они покинули койки на верхней
и батарейной палубахъ, и на многихъ корабляхъ идутъ летучiе митинги.
Было извѣстно, что на всѣхъ
корабляхъ есть коммунистическiя ячейки, но этому не придавали значенiя, разсчитывая
на благоразумiе общей массы матросовъ. Ночью съ совѣтскихъ судовъ прибыли
агитаторы и матросы подпали подъ влiянiе ихъ смѣлыхъ свободныхъ речей.
Были уже насилiя надъ боцманами и квартермистрами, пытавшимися приказать
матросамъ разойтись. Офицеры не смѣли выйти изъ своихъ каютъ. Мятежъ
бѣжалъ, какъ пламя по пороховой ниткѣ. Зараза быстро охватывала
корабли съ экипажами, усталыми отъ тяжелаго плавiнiя по неизвѣстнымъ морямъ,
при неистовой тропической жарѣ.
Безсловесныя и покорныя всегда офицерамъ
команды теперь выносили резолюцiи и ставили требованiя. Вдругъ давняя и всегда
такъ тщательно скрываемая добрыми, джентльменскими отношенiями классовая вражда
между алою и голубою кровью поднялась и вспыхнула съ непреоборимою силою. Стали
вспоминать всѣ бывшiя на протяженiи многихъ лѣтъ обиды и недоразумѣиiя.
Въ адмиралѣ и офицерахъ увидали враговъ «трудового народа», «капиталистовъ»,
«бѣлую кость», угнетающую матросовъ. На судахъ стали выносить одинаковыя,
точно кѣмъ то однимъ продиктованныя резолюцiи, вынесенныя на матросскихъ
митингахъ.
— Команды эскадръ Англiи, Францiи и Союза Coвѣтскихъ
Соцiалистическихъ Республикъ, собравшись на чрезвычайныя собранiя, единогласно
постановили: — требовать отъ адмираловъ и офицеровъ исполненiя ихъ долга передъ
пославшими ихъ демократiями означенныхъ странъ и Лигой Нацiй. Они требуютъ
незамедлительнаго уничтоженiя огнемъ острова, занятаго имперiалистами, заклятыми
врагами трудового народа, милитаристами, готовящими ужасы новой мiровой войны.
Рабочiе всего мiра взываютъ къ совѣсти
офицеровъ союзныхъ эскадръ и требуютъ отъ матросскихъ командъ желѣзной
дисциплины и жестокаго наказанiя людямъ, помыслившимъ уничтожить
совѣтскiй союзъ. Да здравствуютъ Совѣты трудящихся! …
Кровавокрасные огни мятежа загорѣлись на
клотикахъ мачтъ. На англiйскомъ крейсерѣ раздавалось нестройное
пѣнiе «интернацiонала».
Въ четыре часа утра адмиралы и старшiе
офицеры, на этотъ разъ сопровождаемые выборными отъ матросскихъ командъ вновь
собрались на флагманскомъ кораблѣ. Подавленный и уничтоженный, въ эту
ночь точно постарѣвшiй на много лѣтъ вышелъ къ нимъ Флислингъ. Онъ
согнулся и опустился. Пухлыя щеки обрюзгли и были нездороваго буро-малиноваго
цвѣта. Заплывшiе жиромъ глаза были тусклы. Французскiй адмиралъ старался
ни на кого не глядѣть. Въ открытые иллюминаторы смотрѣла темная,
поздняя тропическая ночь. Въ нихъ несся глухой гомонъ не спящихъ, волнующихся
командъ, слышались нестройныя пѣсни, крики угрозъ и свистки. На совѣтскихъ
судахъ оркестры играли «Интернацiоналъ». Комиссаръ совѣтской эскадры самодовольно
потиралъ руки и не могъ скрыть своего торжества. Онъ нагло оглядывалъ
офицеровъ.
Никто не садился. Адмиралъ Флислингъ стоялъ у
дверей каюты.
— Господа, — сказалъ онъ. Его голосъ звучалъ
хрипло и печально. — Я принужденъ покориться обстоятельствамъ. Уступить
насилiю. Вопросъ о законности или незаконности того, что произошло мы будемъ
рѣшать, когда вернемся въ свои порты. Сейчасъ я принужденъ исполнить
желанiя … требованiя командъ … Приказываю съ восходомъ солнца, съ подъемомъ
флаговъ, пробить на судахъ боевую тревогу и открыть огонь по острову.
— Если надъ островомъ не будетъ бѣлаго
флага, — сказалъ тихо, но какъ то особенно внушительно прозвучалъ его голосъ —
адмиралъ де-Периньи. Онъ видимо сильно страдалъ и съ трудомъ скрывалъ то, что
происходило въ его душѣ.
— Или … краснаго, — воскликнулъ, съ прерывистымъ
хохотомъ торжества комиссаръ.
— Ну, этого, надѣюсь, вы никогда не
дождетесь, — мрачно сказалъ Флислингъ. — Мы будемъ стрѣлять только по
Русскому флагу.
— Приказъ объ открытiи огня французскимъ кораблемъ
будетъ отданъ моимъ замѣстителемъ, — грустно сказалъ адмиралъ де-Периньи.
— Я подаю въ отставку … — Онъ повысилъ голосъ: — я не могу отдать приказа объ
открытiи огня по Русскому флагу … Я видѣлъ Тулонъ, я былъ въ
Кронштадтѣ, я знаю Марну и Верденъ, я пережилъ съ Русскими моряками Бизерту
… Такого постыднаго приказа я никогда не отдамъ.
— Какъ вамъ будетъ угодно … какъ вамъ будетъ
угодно, — верещалъ комиссаръ. Онъ не могъ долѣе скрывать своего восторга.
— Это не вы здѣсь, милордъ,
распоряжаетесь, — крикнулъ, раздражаясь до послѣдней степени и теряя
хладнокровiе, Флислингъ. — Это мой приказъ, отдан-ный именемъ короля … Слышите,
чортъ возьми васъ совсѣмъ, — наступая на комиссара, заоралъ Флислингъ, —
короля! … короля! … И никого другого …
— Я слышу … Слышу, господинъ адмиралъ … Ну
такъ я все же слышу … Короля, такъ короля … Ho по волѣ народа …
Комиссаръ былъ въ дверяхъ. И это было хорошо.
Еще мгновенiе и Флислингъ избилъ бы его мощно
сжатыми кулаками. Флислингъ тяжело вздохнулъ.
— Попрошу, господа, по мѣстамъ, —
овладѣвая собою, сказалъ онъ. Приведите ваши команды въ порядокъ.
Берегите снаряды … Ей Богу этотъ островокъ не стоитъ всего этого шума.
Офицеры вышли изъ адмиральской каюты. Въ
свѣтломъ корридорѣ съ блестящими бѣлыми стѣнами
переборокъ, ярко освѣщенными многими электрическими лампочками,
пустынномъ и тихомъ въ этотъ позднiй часъ казалось офицерамъ застыла страшная,
несказанно противная, мерзкая, тошная, послѣдняя
скука.
Скука смертной казни.
XXXV.
Безъ пяти минутъ въ шесть часовъ утра адмиралъ
Флислингъ поднялся на командный мостикъ. Онъ молча взялъ отъ вахтеннаго
начальника подзорную трубу и навелъ ее на островъ. Въ утреннемъ бризѣ,
надъ розовымъ конусомъ потухшаго вулкана тихо и, какъ показалось Флислингу,
особенно внушительно и гордо рѣялъ Русскiй флагъ. Онъ то сворачивался,
путаясь полосами и становясь похожимъ на французскiй, то разворачивался во всю
ширину и четко рисовался на свѣтлѣющемъ небѣ. Съ моря несло
отрадной прохладой. Душистой свѣжестью вѣяло отъ острова. Мiръ былъ
прекрасенъ.
Внизу на верхней палубѣ строились
молчаливыя мрачныя команды.
Англiйскiй адмиралъ, не глядя на вахтеннаго,
сунулъ ему трубу и буркнулъ пухлыми обвѣтренными посѣрѣвшими
губами:
— Приказываю пробить боевую тревогу … Открытiе
огня.
Прошло нѣсколько минутъ. Очень долгими
онѣ показались адмиралу. Надъ вантами побѣжала цвѣткая лента
адмиральскаго приказа. Заиграли горны, имъ откликнулись рожки и точно громадные
усы морского чудовища зашевелились пушки на башнѣ.
И еще никто не рѣшался выпустить
смертоносный снарядъ по молчащему острову, какъ на совѣтскомъ броненосцѣ
«Роза Люксембургъ» вдругъ надъ башнями метнулось пламя и сейчасъ же грозно, громоподобно
грохнулъ первый выстрѣлъ, отдался этомъ о гору и покатился надъ тихимъ
спящимъ океаномъ.
Солнце поднималось изъ морскихъ просторовъ.
Девять судовъ открыли огонь по острову. Гидропланы,
рѣя въ небѣ, корректировали стрѣльбу. Маленькая
розово-зеленая точка на морѣ была окутана бѣлыми, сочными облаками
шрапнельныхъ разрывовъ и громадными бурыми дымами взрывовъ гранатъ, словно
кудрявыя деревья встававщими то тутъ то тамъ. Они были такъ часты, что
временами острова не было видно и не было видно флага на мачтѣ. Тогда на
мгновснiе прекращали огонь, чтобы дать охладиться разгоряченнымъ стволамъ и ждали,
когда разсѣятся дымы разрывовъ надъ островомъ и въ десятки биноклей
смотрѣли на гору. Въ синемъ небѣ надъ розовою скалою, рѣялъ и
точно дразнилъ коммунистовъ прекрасный и невредимый, не опускаемый Русскiй
флагъ.
Въ полдень стрѣльбу прекратили.
Коммунистическiя ячейки потребовали, чтобы командамъ былъ поданъ обѣдъ.
Въ часъ дня огонь возобновился съ новою силою
и подъ его прикрытiемъ съ совѣтскихъ и англiйскихъ судовъ пошли шлюпки и
катера съ десантомъ.
XXXVI.
Какъ ни малъ былъ Россiйскiй островъ онъ былъ
все-таки слишкомъ великъ для его гарнизона въ пятьдесятъ пять человѣкъ.
Его защитники, укрывшiеся въ глубокихъ траншеяхъ и убѣжищахъ, устроенныхъ
на звенья и разсѣянныхъ далеко другъ отъ друга по всему берегу, удачно
отсиживались отъ снарядовъ и бомбъ, бросаемыхъ съ аэроплановъ. Гранаты лопались
вездѣ. Онѣ измѣняли самыя очертанiя острова. Тамъ упадала
граната у берега и ея воронка наполнялась водою, образуя причудливый заливъ,
тамъ разрывомъ снаряда сносило крутыя скалы на краю горы и вмѣсто ихъ пиковъ
являлась покатая чернобурая осыпь. Только одинъ разъ снарядъ попалъ прямо въ
пулеметное отдѣленiе, и восемь человѣкъ вмѣстѣ съ
машиной взлетѣли на воздухъ и исчезли. Тамъ, гдѣ билось восемь
живыхъ сердецъ осталась только глубокая черная воронка.
Защитники острова притаились въ своихъ земляныхъ
норахъ. Сквозь стекла перископовъ наблюдали они изъ подъ земли за тѣмъ,
что дѣлается на морѣ. Они видѣли разрушенiе острова. Во
мгновенiе ока огневымъ вихремъ смело палатки ихъ лагеря. Разметало сарай съ консервными
ящиками и тѣмъ лишило ихъ продоволь-ствiя. Объ этомъ, впрочемъ въ ту
минуту какъ то никто не подумалъ. Громадными осколками разбило кухню Нифонта
Ивановича. Все жилое, все, съ чѣмъ сжились за эти полгода офицеры
уничтожалось и островъ обращался въ груду развалинъ. Луга были покрыты темными
воронками и надъ всѣмъ островомъ носилси запахъ удушливой гари.
Когда въ полдень огонь утихъ ошеломленные, оглушечные,
потерявшiе способность соображать, люди стали выходить изъ убѣжишъ и
осматриваться. Отвѣсные лучи солнца казались нестерпимыми. Тутъ, тамъ на
лугахъ, на скатахъ горы дымились воронки. Люди отряда капитана Немо снимали
противогазы, протирали глаза, вдыхали знойный воздухъ, расправляли затекшiе
члены и, казалось, и сами не понимали, какъ могли они выйти живыми изъ этого
ада, какъ спасла ихъ судьба. Нифонтъ Ивановичъ хлопоталъ изготовить чайку, и
послалъ Фирса посмотрѣть цѣла ли мачта. Князь Ардаганскiй
совершенно потрясенный, ничего еще не соображающiй пошелъ за Фирсомъ. Ему,
проведшему эти часы рядомъ съ Фирсомъ казалось, что съ нимъ ему будетъ не такъ
одиноко. Онъ хотѣлъ заглянуть и къ капитану Немо, отъ котораго все время
боя они по громкоговорителю слышали слова ободренiя.
Они побѣжали вверхъ по тропинкѣ.
— Цѣлъ! … цѣлъ, — въ какомъ то
животномъ во(…)скому рукою на вершину мачты, гдѣ то разворачивался, то
опадалъ ихъ, ставшiй имъ необычайно дорогимъ Русскiй флагъ.
— Пойдемъ назадъ, — сказалъ Ардаганскiй, — чего
еще … Вдругъ они начнутъ … Ему страшна была теперь самая тишина острова,
хотѣлось къ людямъ, хотѣлось въ тѣсное душное убѣжище.
Просторъ океана, гдѣ были видны суда противника, казался ему ужаснымъ. Но
Фирсу хотѣлось убѣдиться, что и самое основанiе мачты никакъ не
повреждено. Фирсъ бѣжалъ безоружный. Тяжелый «наганъ» болтался въ
кобурѣ на боку у Ардаганскаго и казался ему лишнимъ и ненужнымъ. Онъ
стѣснялъ его.
— Одинъ секундъ, Михако … Гляньте-ка, что это
тамъ такое? … Ахъ ты Господи, вотъ еще гадъ!
Впереди ихъ и по тому же направленiю къ
мачтѣ, тщательно скрываясь въ кустахъ алоэ и кактусахъ кралась какая то
бѣлая фигура. Фирсъ схватилъ князя Ардаганского за руку и повлекъ его за
собою.
— Ишь ты какое замыслилъ … Ну погоди-жъ ты! …
Вотъ негодяй! … Стерьва паршивая … — бормоталъ Фирсъ.
Онъ тащилъ за собою въ гору совсѣмъ
изнемогавшаго отъ зноя князя. Изъ подъ ихъ пробковыхъ шлемовъ потъ лилъ струями
и, заливая глаза, мѣшалъ видѣть. Человѣкъ въ бѣломъ
былъ уже у основанiя мачты. Онъ рѣзкимъ движенiемъ выхватилъ изъ за
пазухи красное полотнище и сталъ махать имъ. Потомъ полѣзъ
на мачту.
Какъ въ какомъ то кошмарномъ снѣ князь
узналъ въ этомъ человѣкѣ въ бѣломъ Мишеля Строгова.
— Гляньте, что они дѣлаютъ … Предатели!
… Гадъ паршивый … Слѣзай, чортовъ сынъ … Слѣзай тебѣ говорятъ,
— кричалъ, задыхаясь въ изступленiи Фирсъ.
Мишель Строговъ, казалось, не слыхалъ его. Онъ
видимо былъ пораженъ, что флагъ такъ прочно прибитъ къ мачтѣ. Держась
колѣнями за мачту, сунувъ снова за пазуху красное полотнище, онъ досталъ
изъ за сапога кривой ножъ и сталъ отрѣзать флагъ отъ мачты.
— Михако, стрѣляйте въ него … Видите
какое дѣло замышляютъ. Такимъ гадамъ глотку своими руками рвать надоть.
Князь Ардаганскiй какъ то нерѣшительно вынулъ
изъ кобуры револьверъ, приподнялъ было его, увидалъ на мушкѣ Мишеля
Строгова, вспомнилъ все и точно сталъ ему револьверъ не подъ силу тяжелымъ — онь
уронилъ его на землю.
— Нюжли-жъ и того не умѣете, — съ
негодованiемъ, глубоко оскорбившимъ князя крикнулъ Фирсъ, — а, голубая кровь! …
Правильно прозвали васъ большевики — буржуи! … Что-бъ васъ! …
Онъ схватилъ револьверъ съ земли и
выстрѣлилъ.
Пуля удачно хватила Мишеля по рукѣ. Онъ
скатился внизъ съ мачты. По тыловой части ладони струею текла кровь. Князь
бросился къ нему, но Мишель ловкимъ и сильнымъ ударомъ кулака свалилъ князя съ
ногъ. Этотъ ударъ точно пробудилъ князя, онъ вскочилъ на ноги и снова бросился
на Мишеля. Въ тотъ же мигъ Фирсъ всею тяжестью навалился иа Мишеля сзади и,
давъ ему подножку, бросилъ его на землю. Онъ скрутилъ ему руки назадъ,
приподнялъ его и поставилъ на ноги. Князь ухватилъ Мишеля сзади за лотки и они
оба повлекли Мишеля внизъ съ горы. Мишель молчалъ. Онъ тяжело сопѣлъ и
пытался зубами достать то руки крѣпко державшаго его Фирса, то красное
полотнище, торчавшее у него изъ за пазухи. Но Фирсъ угадывалъ его маневры и
всякiй разъ еще сильнѣе сжимая руки и выкручивая ихъ мѣшалъ ему въ
этомъ и въ тоже время ногою толкалъ его, заставляя бѣжать по крутому спуску.
У главнаго окопа, гдѣ былъ Ложейниковъ
ихъ поджидала группа бойцовъ.
— Что тамъ случилось? — спросилъ полковникъ
Ложейниковъ.
Мишель Строговъ былъ противъ него. Онъ былъ
багрово красенъ, съ выпученными страшными глазами, сверкающими непередаваемой,
нечеловѣческой злобой. Онь оглядывалъ столпившихся кругомъ Ложейникова людей.
— Вотъ, ваше высокоблагородiе, гляньте какую
пакость хотѣли исдѣлать намъ, — сказалъ, задыхаясь отъ усилiя
держать Мишеля и отъ бѣготни и драки, Фирсъ. Онъ, освободивъ на мгновенiе
одну руку Мишеля, выхватилъ изъ его пазухи красное полотнище съ пришитымй къ
нему бѣлыми завязками и бросилъ его къ ногамъ Ложейникова. — Съ ножомъ,
дьяволъ карабкался, чтобы срѣзать, значитъ, нашу святыню и свою красную
пакость навязать. Экую подлую сдачу придумалъ!
Мишель озирался, какъ затравленный волкъ. Онъ
поднялъ голову, мотнулъ волосами, выпрямилъ грудь, стараясь освободиться отъ
зажавшаго его, какъ въ клещахъ Фирса и выкрикнулъ съ отчаянiемъ:
— Товарищи! …
— Здѣсь вамъ нѣту товарищей, —
грозно заревѣлъ на него Ложейниковъ и сдѣлалъ шагъ къ нему.
— Товарищи, — упрямо съ отчаянною
смѣлостью повторилъ Мишель. — Мы нанимались на фильмѣ сниматься … А
не чтобы … пушечное мясо … Я говорю, — со страшною силою и нечеловѣческою
злобою крикнулъ Мишель, — никакого права вы не имѣете! … Я жить хочу! … Я
молодъ! … Я! … Жить! … Мнѣ эти: — слава … честь … долгъ … еще вотъ Родина
… He существуютъ они для меня! Я новый человѣкъ! … Мнѣ ваши
предразсудки, чтобы жизнь … Единственное, что … Я не желаю умирать …
— Молчи, гадъ, — съ ненавистью крикнулъ Фирсь.
— Дайте говорить, не мѣшайте, — крикнули
сзади.
— Правильно! … Безполезная смерть! … Для чего?
…
— Кого мы удивимъ? …
— Кто насъ увидитъ? …
— Кто узнаетъ? … Весь мiръ противъ насъ!
— Сдаваться надо!
Кричало два, три человѣка. Остальные
молчали. Смятенiе было кругомъ. Въ это время, расталкивая толпу, къ самому полковнику
Ложейникову подошелъ
старый Нифонтъ
Ивановичъ. Въ крѣпкой и зачугунѣлой рукѣ у него былъ зажатъ
топоръ. Онъ имъ рубилъ сейчасъ дрова.
— Ваше высокоблагородiе, — сказалъ онъ съ такою
медлительною и важною суровостью, что крики сразу стихли, и жуткая наступила
тишина. Маленькiе медвѣжьи глаза стараго казака горѣли яснымъ, что
то незгмное видящимъ огнемъ. — Ваше высокоблагородiе, какъ онъ есть предатель
святого дѣла защиты Родины … Измѣнникъ Русскому знамени … И какъ съ
нашего дома … Съ одной виллы Коксинель, какъ бы мой однохуторецъ,
разрѣшите мнѣ, какъ отцу недостойнаго сына и прикончить его …
И никто ничего не успѣлъ ни возразить
или крикнуть, какъ Нифонтъ Ивановичъ, какъ то особенно инутри гакнувъ, обрушилъ
топоръ на узкiй, упрямый лобъ Мишеля Строгова, Толпа охнула. Князь Ардаганскiй,
державшiй сзади Строгова, отскочилъ въ брезгливомъ ужасѣ. Фирсъ бросилъ
Мишеля и тотъ безъ стона, мертвый, съ раскроеннымъ черепомъ упалъ къ ногамъ
толпы.
И никто не успѣлъ еще хорошенько
осознать, что случилось, какъ сверху, гдѣ былъ наблюдательный постъ
капитана Немо, раздалась спокойная и твердая команда:
— Смирно! По мѣстамъ! … Надѣть
противогазы! …
Въ небѣ, все наростая раздавался шелесть
приближающагося полета тяжелыхъ снарядовъ и одновременно съ ихъ разрывомъ
загремѣлъ громъ возобновившейся бомбардировки острова.
Было не до Мишеля Строгова.
XXXVII.
Послѣднiя шрапнели бѣлымъ
колеблющимся, кружевнымъ поясомъ облегли береговую линiю. Канонада смолкла.
Боялись попасть по своимъ. Шлюпки съ дессантомъ подходили къ острову.
Въ этой тишинѣ, зловѣще засвистали
свистки и раздалась увѣренная команда Ложейникова: — «огонь»! …
Четыре маленькiя пушечки Гочкиса, шесть пулеметовъ
и двадцать пять винтовокъ открыли огонь по лодкамъ. Жалкими и ничтожными
казались ихъ выстрѣлы послѣ громовъ морскихъ гигантовъ. Но мѣтко
стрѣляли эти люди, рѣшившiе дорого отдать свого жизнь. Руководила
ими опытная офицерская рука. И стрѣляли спецiалисты дѣла — офицеры.
Стрѣляли обреченные на смерть и съ этимъ примирившiеся. Стрѣляли,
чтобы продлить еще немного свою жизнь, стрѣляли, можетъ быть, въ жалкой
надеждѣ оборониться мужествомъ отъ силы.
Большой катеръ съ крейсера «Металлистъ» тонулъ
удачно подбитый снарядомъ. На катерѣ съ «Розы Люксембургъ» всѣ гребцы
и большая часть краснофлотцевъ дессанта были перебиты пулеметнымъ и винтовочнымъ
огнемъ. Его взялъ на буксиръ катеръ съ англiйскаго броненосца. Эта горсть
защитниковъ умѣла сражаться и дорого отдавала свою жизнь … Лодки съ дессантомъ,
не слушая ни командъ ни сигналовъ, поворачивали назадъ. Первыми удрали моторные
катера, и вельботы шли подъ ударами веселъ, бившихъ торопливо, нервно и не въ
попадъ. Многiя совѣтскiя шлюпки перевернулись, и съ берега было видно,
какъ кругомъ упавшихъ въ воду людей, пѣня воду, сновали акулы. Дессантъ
удалялся со всею возможною поспѣшностью, а по нему все били и били
винтовки и поливали пулями стрекочущiе мѣткiе пулеметы. Дорого отдавали
свои обреченныя жизни защитники таинственнаго острова. Побѣдить или
умереть, — было ихъ рѣшенiе.
Они побѣждали.
На англiйскихъ и французскихъ судахъ былъ поданъ
сигналъ: «отбой». Адмиралъ Флислингъ рѣшилъ прекратить нападенiе на
островъ и предоставить его своей судьбѣ. Воля капитана Немо оказалась
сильнѣе воли Англiйскихъ и Французскихъ моряковъ. Она сломила ихъ
наступленiе. Но не сдавался совѣтскiй комиссаръ. Онъ явился на
флагманскiй корабль съ требованiемъ разрѣшить ему забросать островъ съ
гидроплановъ бомбами съ совсѣмъ особыми газами, противъ которыхъ
всѣ противогазы были безсильны. Этотъ газъ, — особое видоизмѣненiе
«Люизита», названнаго въ Америкѣ «росою смерти», былъ изобрѣтенъ въ
Осоавiохимѣ химикомъ нѣмцемъ, когда то сотрудникомъ и соперникомъ
профессора Бундерлиха и былъ испытанъ надъ преступниками въ совѣтской
республикѣ. Дѣйствiе его было столь ужасно, что въ совѣтскихъ
газетахъ не рѣшились опубликовать результатовъ испытанiй, но слухи о немъ
проникли заграницу и, когда комиссаръ совѣтскаго флота предложилъ въ
самомъ началѣ примѣнить этотъ газь, онъ встрѣтилъ серьезный
отпоръ со стороны своихъ боевыхъ товарищей. Теперь при видѣ потерь
понесенныхъ совѣтскимъ дессантомъ, адмиралъ Флислингъ на предложенiе
комиссара не отвѣтилъ ничего. Онъ умылъ руки. «Дѣлайте, какъ
хотите, но мы принимать участiя въ этомъ ужасномъ дѣлѣ не будемъ»,
— означало его молчанiе.
И сейчасъ же десять совѣтскихъ гидроплановъ
слетѣли съ моря и понеслись къ острову. Бурый низкiй дымъ жуткимъ
туманомъ затянулъ островъ, поднялся до
вершины горы и
растаялъ въ воздухѣ. И когда снова въ подзорныя трубы сталъ виденъ весь
островъ, на немъ не было замѣтно никакого движенiя. Комиссаръ явился къ
адмиралу Флислингу. Онъ вошелъ, радостно возбужденный, торжествующiй и
зловѣщiй. У адмирала Флислинга сидѣлъ представитель «Интеллидженцъ
Сервисъ» капитанъ Холливель.
— Ну вы знаете, — потирая руки и не пытаясь
ихъ подавать, зная на передъ, что его протянутая рука никѣмъ не будетъ
принята, — ну вы знаете, — оживленно говорилъ комиссаръ. — Вы совершенно
напрасно были противъ этого. Такъ съ этого надо было начинать и все было бы
давно кончено. He даромъ наши товарищи, большевики, назвали этотъ газъ —
«поцѣлуй смерти». И смотрите, какъ генiально придумано. Другiе газы,
сдѣлавъ свое дѣло убiйства, остаются долго на землѣ,
«по-цѣлуй смерти» поднимается вверхъ и можно наступать и можно сейчасъ же
видѣть результатъ своей побѣды. Мы можемъ ѣхать на островъ. Мы
можемъ срывать проклятый флагъ, рубить мачту, мы можемъ брать трофеи. Потому,
знаете, мое коммунистическое сердце совсѣмъ не выдерживаетъ — проклятый
флагъ все развѣвается … Будто и не было нашей побѣды.
Адмиралъ Флислингъ поднялся.
— Ѣдемте, капитанъ, — сказалъ онъ взволнованно,
хватая руки капитана Холливеля, — поклонимся праху святыхъ героевъ, Русскихъ
патрiотовъ.
He глядя на комиссара, какъ мимо пустого
мѣста, прошелъ адмиралъ къ сходнямъ, гдѣ стоялъ дежурный катеръ.
Шлюпки съ дессантомъ пошли впереди. Осторожность
не мѣшала. Солнце садилось. Въ его золотыхъ лучахъ на вечернемъ
бризѣ Русскiй флагъ, развѣвавшiйся
на мачтѣ казался
грозящимъ и торжественнымъ. Мертвая тишина была на островѣ.
Никто и никакъ не встрѣтилъ матросовъ и
краснофлотцевъ дессанта. Люди разсыпались жидкою цѣпью и, держа ружья на
перевѣсъ, пошли вглубь острова къ горѣ. За матросами шли адмиралъ
Флислингъ, капитанъ Холливель и нѣсколько англiйскихъ офицеровъ.
Въ глубокихъ окопахъ, съ коричневыми лицами,
словно опаленными огнемъ, скорченные въ ужасныхъ мукахъ лежали мертвецы. У
однихъ руки были подняты и страшными казались ихъ въ послѣдней смертной
мукѣ растопыренные пальцы, у другихъ пальцы были сложены, какъ для крестнаго
знаменiя и въ лицахъ ихъ сквозь муки агонiи проглядывало спокойствiе смерти.
Они лежали съ закрытыми глазами и покойны были черты людей, умершихъ въ
сознанiи свято исполненнаго долга. Другiе съ открытыми выпученными, почти вылѣзшими
изъ орбитъ глазами съ открытыми страшными ртами точно вопiяли къ небу, прося
помощи.
Адмиралъ обошелъ островъ. Какъ мало было защитниковъ!
— Гдѣ же тяжелыя пушки, о которыхъ вы
вчера намъ докладывали? — съ презрѣнiемъ въ голосѣ сказалъ
Флислингъ шедшему въ сторонѣ отъ него совѣтскому комиссару.
— Ну такъ я таки не говорилъ: — тяжелыя пушки,
я говорилъ — пушки.
— Четыре Гочкиса! … Надъ нами смѣяться
будутъ! … А гдѣ миллiоны пулеметовъ … Сколько пулеметовъ насчитали вы на
островѣ? —обратился Флислингъ къ своему флагъ офицеру.
— Шесть пулеметовъ, господинъ адмиралъ.
— Четыре Гочкиса и шесть пулеметовъ и для этого
поднимать флоты двухъ великихъ державъ!
— Трехъ, — поправилъ съ наглостью комиссаръ.
— Я сказалъ двухъ! — рѣзко крикнулъ
адмиралъ Флислингъ. — Англiи и Францiи!
Они поднялись на площадку, гдѣ вдругъ
передъ ними показался странно уцѣлѣвшiй въ этомъ общемъ разгромѣ
домикъ-баракъ изъ «соломита». Кругомъ были черныя воронки разрывовъ, осыпи
земли, обломки скалъ, куски стали и мѣди, а домикъ стоялъ невредимый.
Дверь была открыта, точно хозяинъ только что вышелъ изъ него.
Холливель отдѣлился отъ адмирала и вошелъ
въ баракъ первымъ. Въ маленькой комнатѣ, пронизанной свѣтомъ косыхъ
солнечныхъ лучей, среди полуразобранныхъ радiо аппаратовъ, у письменнаго стола,
заваленнаго разорванными бумагами и книгами, съ раскрытымъ ящикомъ одинъ предметъ
привлекъ вниманiе Холливеля. Въ ящикѣ лежалъ фотографическiй портретъ въ
кожаной рамкѣ. Точно тотъ, кто жилъ въ этомъ баракѣ, въ послѣднюю
минуту смотрѣлъ на этотъ потретъ и кѣмъ то или чѣмъ то
вызванный, не успѣлъ спрятать или уничтожить его и вышелъ изъ барака на
минуту и не вернулся. Холливель подошелъ къ столу и взялъ портретъ въ руки.
Бывшая на лицѣ его самодовольная улыбка сошла. Холодное, чисто выбритое
лицо стало угрюмо и серьезно.
Изъ кожаной рамки въ глаза Холливелю
глядѣла изъ подъ котелка амазонки его жена Ана Холливель. Она была снята,
должно быть въ Булонскомъ лѣсу на своей любимой рыжей лошади. Какiя то
незримыя, тайныя нити, значитъ, тянулись изъ этой хижины изъ «соломита» къ его
женѣ. Что то похожее на чувство ревности шевельнулось въ сердцѣ
Холливеля. Онъ досадливо передернулъ плечами. «He все ли равно. Вѣдь и
такъ все кончено» … За стѣнами стали слышны шаги и голоса. Холливель
поспѣшно спряталъ портретъ въ просторномъ карманѣ бѣлаго
«френча» и вышелъ изъ барака.
— Ничего особеннаго? — спросилъ адмиралъ.
— Ничего особеннаго, — отвѣтилъ ему
Холливель. — Радiо аппаратъ испорченъ. А жаль. Онъ былъ какой то
неизвѣстной системы и было бы хорошо угадать и распознать ее.
Адмиралъ махнулъ рукою. Онъ, тяжело дыша, поднимался
на гору. Изъ за черныхъ базальтовыхъ скалъ показалась верхушка мачты. На ней
гордо развѣвался громадный Русскiй флагъ. Заходящее солнце золотило его.
Маленькiя дырки отъ шрапнелей сквозили въ его полотнѣ.
— За мной, товарищи, — крикнулъ комиссаръ и
бросился, обгоняя адмирала, къ мачтѣ.
— Что вы хотите дѣлать? — строго сказалъ
Флислингъ.
— Ну что хочу дѣлать? Такъ я хочу
срывать этого паршиваго флага.
— He смѣть! — рѣзко, багрово
краснѣя, крикнулъ адмиралъ. — He смѣть этого дѣлать! …
Паршивцы! …
— Что? — дѣлая видъ, что не разслышалъ,
обернулся къ адмиралу комиссаръ.
— He смѣть спускать этотъ флагъ! Этотъ
флагъ останется навсегда! Навѣки здѣсь! … Это память о той Россiи,
которая не измѣняетъ своему слову, которая умираетъ, но не сдается! …
Флислингъ снялъ шляпу. Его примѣру
послѣдовали англiйскiе офицеры и матросы. Капитанъ Холливель снялъ свой
бѣлый пробковый шлемъ. Виновато улыбаясь стали снимать безкозырки съ алыми
ленточками матросы совѣтскаго флота. Комиссаръ стоялъ въ бѣлой
каскеткѣ, заломленной на затылокъ. Адмиралъ Флисмингъ строго посмотрѣлъ
на него. Комиссаръ чуть замѣтно пожалъ плечами и снялъ съ головы
шапченку.
Съ обнаженными головами, въ суровомъ почтительномъ
молчанiи, всѣ вереницей поднимались по узкой тропинкѣ, вьющейся
между скалами къ вершинѣ горы. Закрытая скалами мачта стала видна до самаго
основанiя. У него, прислонившись къ древку спиною, стоялъ человѣкъ, въ
Русскомъ мундирѣ. На его плечахъ были полковничьи артиллерiйскiе погоны.
На головѣ фуражка съ чернымъ бархатнымъ околышемъ и алыми кантами.
Вѣтеръ игралъ выбившимися изъ подъ нея длинными сѣдыми волосами.
Сѣдые усы и сѣдая бородка рѣзко выдѣлялись на темномъ
лицѣ. Его руки были сложены на груди. Надъ ними былъ орденъ св. Владимiра
4-й степени съ мечами и бантомъ. На золотой портупеѣ висѣла Русская
офицерская шашка въ черныхъ ножнахъ. Револьеръ въ кожанной кобурѣ былъ на
боку. Ясные карiе глаза были широко открыты и точно съ удивленiемъ и грустью
смотрѣли на зеленѣющее на востокѣ небо. Заходящее солнце
освѣщало его сзади и вокругъ его головы сверкалъ золотой нимбъ отъ сiянiя
солнечныхъ лучей.
Медленно, съ обнаженными головами подходили къ
этому человѣку англичане и краснофлотцы съ своимъ комиссаромъ, пугливо
жавшимся за ними. Этотъ послѣднiй часовой при Русскомъ знамени казался
страшнымъ и внушительнымъ. Къ нему подходили въ суровомъ и почтительномъ
молчанiи.
Всѣ вышли на площадку и остановились въ
нѣсколькихъ шагахъ отъ этого человѣка. Онъ не шевельнулся.
Человѣкъ этотъ былъ мертвъ.
К О Н Е Ц Ъ.
Апрѣль 1931 года — январь 1932 года.
дер. Сантени.
Францiя.
ОТЪ АВТОРА.
Романомъ «Подвигъ»
заканчивается трилогiя романовъ «Largo», — «Выпашь»,
— «Подвигъ».
Въ этихъ романахъ автору хотѣлось
нарисовать читателю картину жизни среднихъ Русскихъ, людей толпы, безъ имени,
безъ историческаго значенiя, тѣхъ маленькихъ добросовѣстныхъ
ротныхъ командировъ, профессоровъ, врачей, кто дѣлалъ черное и невидное
дѣло государственной работы, кто былъ — одни незамѣтными, вольными
или невольными пособниками революцiи и разрушенiя Россiи, другiе, кто за своими
ежедневными работами и заботами, за своей службой
проглядѣлъ страшное дѣло темныхъ силъ, по своему простодушiю и прекраснодушiю
ему не повѣрилъ, а когда понялъ и увидѣлъ совершившееся — не прiялъ
новой власти, ополчился на нее, боролся съ нею и, не побѣдивъ, удалился
заграницу, чтобы тяжкимъ трудомъ зарабатывать горькiй хлѣбъ изгнанiя и
накапливать силы въ твердой вѣрѣ въ неизбѣжность борьбы за Россiю.
Эти три романа — жизнь цѣлаго
поколѣнiя въ теченiе двадцати лѣтъ — 1911-1931 г.г.
«Largo», — исторiя
передвоеннаго времени, времени смутнаго, лишь наружно спокойнаго. Совѣсть
Русскихъ заражена гнилостными бактерiями соцiализма, и стыдно быть Русскимъ.
Широко, привольно и плавно, богато и спокойно течетъ Русская жизнь. Ученья, школа,
служба, скачки, флиртъ, любовныя утѣхи и на ихъ яркомъ фонѣ темное,
таинственное, неразгаданное дѣло убiйства христiанскаго мальчика Ванюши
Лыщинскаго — первые громы зловѣщей революцiи.
Съ совсѣмъ незамѣтно надорванными
силами вступили эти люди въ необычайную, невѣроятно жестокую и длительную
мiровую войну. Отъ нихъ потребовали больше того, что они могли дать, ихъ выпахали, какъ выпахиваютъ поле,
перестающее родить и, когда потребовалось еще большее напряженiе силъ въ
войнѣ за Россiю противъ III интернацiонала — силъ уже не было. Нуженъ
былъ отдыхъ. Борцы ушли заграницу, гдѣ ихъ ожидалъ тяжелый трудъ. Въ
описанiи этого проходитъ «Выпашь».
Въ ней читатель встрѣтится съ тѣми честными рыцарями — Донъ Кихотами Россiйскими, кто твердо
усвоилъ: — «жизнь — Родинѣ, честь
никому», кто свою «бѣлую мечту» свято несетъ черезъ тысячи лишенiй,
оскорбленiй и тяжкихъ страданiй.
Романистъ всегда историкъ. И — историкъ гораздо
въ большей степени, чѣмъ это принято думать. Романистъ въ своей
душѣ, въ своемъ сердцѣ, которое вкладываетъ въ произведенiе,
отражаетъ жизнь, и, отражая, изображаетъ ее въ рядѣ картинъ и сложившихся
типовъ. Романистъ свободнѣе историка. Послѣднiй связанъ тѣмъ,
что онъ можетъ изображать только опредѣленныхъ людей — историческiя
личности, и не можетъ рисовать портреты людей толпы. Все это доступно романисту.
Ему позволено описывать не только факты, событiя, историческiя происшествiя, но
и бытъ, мимо котораго гордо проходитъ
историкъ. Романистъ можетъ изобразить и домашнiй концертъ, и скачки, и парфорсныя
охоты, и любовныя увлеченiя, и паденiя среднихъ, совсѣмъ не историческихъ людей. Историкъ лишенъ
этого. При этомъ романистъ изображаетъ это такъ же вѣрно, точно, скажемъ
— «пунктуально», какъ это сдѣлалъ бы историкъ въ отношенiи событiй
крупныхъ и личностей историческихъ. Романистъ не называетъ подлинныхъ именъ,
скрывая ихъ подъ именами своихъ выдуманныхъ героевъ. Это правда — его герои
вымышлены и то, что они дѣлаютъ придумано, — но такiе люди — были и такiе
поступки — совершались.
Въ «Largo»,
« Выпаши» и въ первой части «Подвига» — «Lеs Coccinelles» — авторъ держался
исторической правды и тому, что было, и тѣмъ людямъ, которые дѣйствительно
существовали и существуютъ, придавалъ характеръ портретовъ, а не фотографiй,
рисуя жанровую картину, а не дѣлая моментальнаго снимка.
Въ остальныхъ трехъ частяхъ послѣдняго
романа авторъ вдался въ фантазiю, и людямъ, дѣйствительно живымъ и
жившимъ, приписалъ дѣйствiя и поступки, подвигъ, котораго на дѣлѣ совершенно не было.
Можетъ быть въ этихъ частяхъ авторъ раскрылъ
нѣкую тайну, какой то прекрасный планъ и тѣмъ сыгралъ въ руку большевикамъ?...
Ничуть... Людей, способныхъ на подвигъ въ томъ
среднемъ классѣ общества, который авторъ изображаетъ въ трилогiи очень
много. Мы найдемъ кругомъ себя колеблющихся, сомнѣвающихся Нордековыхъ, въ концѣ концовъ
идущихъ исполнить свой долгъ и исполняющихъ его не хуже другихъ. Мы найдемъ
простыхъ и честныхъ Парчевскихъ,
Ферфаксовыхъ, Амарантовыхъ, Пиксановыхъ, кто, не спрашивая на большое, или
малое дѣло его посылаютъ, на подвигъ славы, или на подвигъ смерти, идутъ
и точно исполняютъ то, что приказано. Мы найдемъ и Ранцевыхъ, готовыхъ оставить дочь и семью ради служенiя
Родинѣ, блещущихъ всею чистотою и красотою офицерскаго долга.
Быть можетъ найдутся и блестящiе, генiальные
изобрѣтатели и организаторы, подобные Долле — капитану Немо...
Но мы не найдемъ ни среди насъ, изгнанниковъ
Русскихъ, ни среди иностранцевъ, — будемъ говорить и о нихъ, ибо борьба съ III
интернацiоналомъ не только Русское, но мiровое дѣло, — мы не найдемъ
людей, способныхъ отдать все свое — и не малое — состоянiе дѣлу спасенiя
мiра отъ большевиковъ. То, что создалъ и выполнилъ въ романѣ «Подвигъ»
капитанъ Немо потребовало бы пятьсотъ миллiоновъ французскихъ франковъ —
двадцать миллiоновъ американскихъ долларовъ, т. е. примѣрно ту сумму,
какую нѣкоторые богатые иностранцы завѣщаютъ любимому пуделю,
кошкѣ, или попугаю. Это деньги, какiя жертвуются на устройство институтовъ
для изслѣдованiя жизни моллюсковъ, — но найти такого человѣка,
который завѣщалъ бы или пожертвовалъ такую сумму на спасенiе всего мiра
отъ коммунистической заразы — невозможно.
...«Iисусъ сказалъ ему: если хочешь быть
совершеннымъ, пойди, продай имѣнiе твое и раздай нищимъ; и будешь
имѣть сокровища на небесахъ; и приходи и слѣдуй за Мною. Услышавъ
слово сiе, юноша отошелъ съ печалью, потому что у него было большое
имѣнiе. Iисусъ же сказалъ ученикамъ Своимъ: истинно говорю вамъ, что
трудно войти богатому въ Царство Небесное»... (Евангелiе отъ Матѳея. Гл.
19 ст. 21-23).